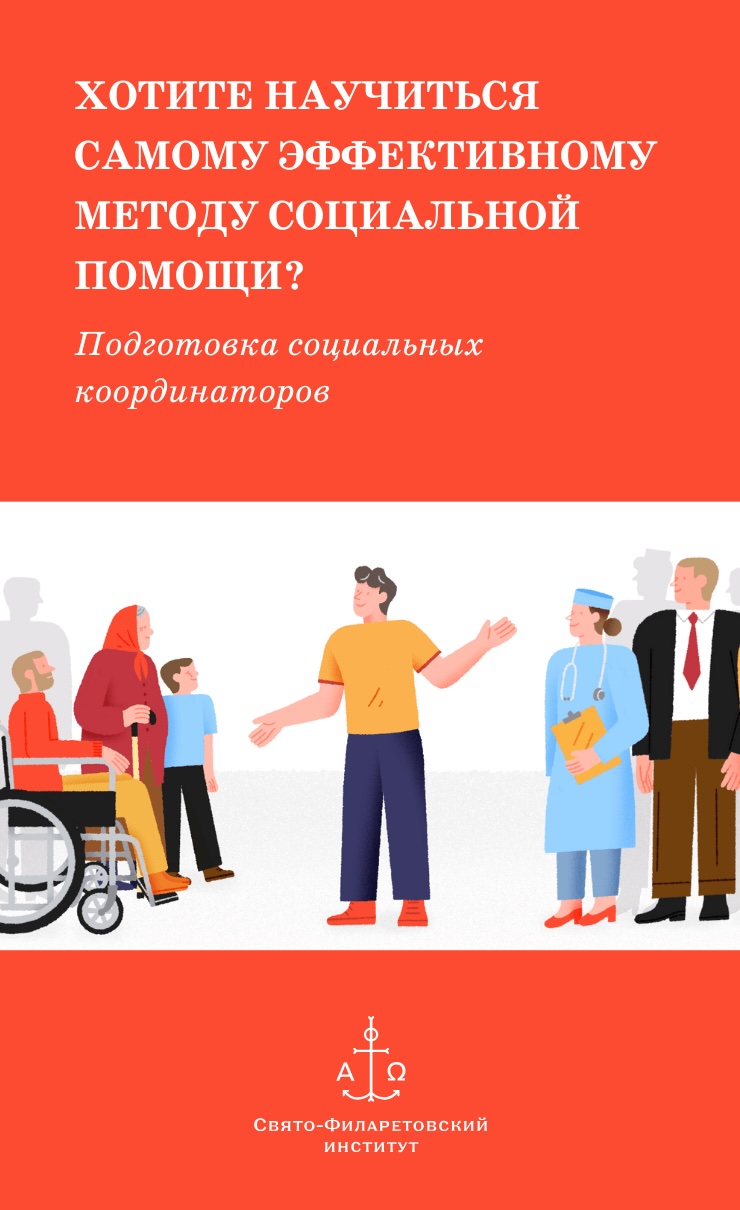Дмитрий Николаевич Дикарёв. Фото предоставлено Марией Дикарёвой
Дмитрий Николаевич Дикарёв. Фото предоставлено Марией ДикарёвойПредваряя публикацию дневника, «Стол» расспросил внучку его автора, Марию Дикарёву, об отношении семьи к «трудной памяти» о войне.
– Почему вы решили публиковать дневник дедушки?
– Я не считаю, что этот дневник является каким-то уникальным документом. Но чем больше будет живых свидетельств о войне, тем лучше мы сможем понять, что там происходило. Я давно уже не связываю историческую правду просто с фактами. Факт не существует без интерпретации. Для меня история – это в первую очередь судьбы людей. А из всех «эго-источников» самый достоверный, конечно же, дневник, так как писавший не планировал его делать достоянием других людей. Дневник – это не столько свидетельство о событиях (факты как раз могут быть искажены свидетелем), сколько о человеке. XX век, породивший «массового человека», приучил нас не видеть за событиями людей, поэтому в нём не было места состраданию, а история без сострадания никого ничему научить не может.
– Что для вас и вашей семьи самое важное в памяти о войне?
– Отчасти я уже сказала. Главное в памяти о войне – память о людях, их страданиях, их подвигах, о том, что война, как и любая пограничная ситуация, ставит человека перед выбором между самоспасением и верностью своим принципам, и к этому выбору надо готовиться, иначе, когда он застаёт врасплох, человек не всегда может сохранить верность человеческому в себе. Мне дороги дневники моего деда именно тем, что он честно пишет в них и о своих падениях, и о своей внутренней борьбе за честь и достоинство, о том, как он пропитывался духом цинизма и как пытался сопротивляться этому, но не всегда успешно (не все эти фрагменты подлежат публикации по причине слишком личного характера написанного). Ещё важно помнить, что война – абсолютное зло и всегда обман. Поэтому в войне невозможно одержать победу. Фактическая победа – это всё равно поражение народа, потому что люди после войны получают сильнейшие травмы, прежде всего нравственные, от которых долго или даже никогда не могут оправится. В первую очередь из-за необходимости убивать. Человек не может убить другого человека, не убив прежде в себе человека. Поэтому ему нужно какое-то «высокое» оправдание этого убийства: «за родину», «за своих». Но как ни оправдывай, убийство всё равно остаётся убийством и имеет тяжелейшие нравственные и психические последствия для человека.
И ещё важно помнить, что сделала страна со своими героями, сколько их погибло в лагерях и ссылках. Дед всегда подчёркивал, что он в молодости был следователем по дорожно-транспортным происшествиям. Полагаю, именно потому, что ему было важно, чтобы я, ещё ничего не знавшая о репрессиях, хорошенько запомнила этот факт и не подумала бы впоследствии о его причастности к ним.
 Мария Дикарёва, внучка Дмитрия Николаевича Дикарёва
Мария Дикарёва, внучка Дмитрия Николаевича Дикарёва– Часто можно слышать, что «непарадная история» войны оскорбляет память героев. Вы так не думаете?
– Память героев оскорбляется тогда, когда из людей делают «идолов» и когда умалчиваются обстоятельства, в которых им приходилось «геройствовать» и из-за которых им пришлось умереть. Живой герой лучше мёртвого, потому что он может стать примером. Дедушка всегда с юмором рассказывал о своих подвигах. Это походило скорее на какой-то фарс, чем на геройство в его устах. И, прочитав дневники, я теперь понимаю, почему. Потому что он не чувствовал себя героем. Он стал героем, просто чтобы выжить, и, как я уже говорила, видимо, на совести было что-то такое, что мешало ему чувствовать свой героизм. И то, что я узнала, какие-то недостойные поступки дедушки не унизили его в моих глазах, а сделали нас ближе, помогли мне лучше понять его и сделать для себя какие-то важные выводы из его судьбы.
– Как в вашей семье относились к 9 Мая?
– Дедушка, к сожалению, рано умер, я мало успела с ним поговорить на эту тему всерьёз. Но помню, что мы с ним ходили куда-то, где собирались остатки его однополчан. Их было очень мало. Главное – это был праздник встречи. Никаких застолий с тостами не было. Мне, конечно, ужасно нравился дед в форме, увешанной орденами, и я испытывала гордость, когда по пути люди дарили ему цветы. У меня ещё бабушка была участницей войны. Она большую часть войны работала и училась в тылу, а в последний год работала хирургом в госпитале и тоже многое видела и слышала. Она прожила долгую жизнь, и с ней удалось поговорить. От неё я впервые услышала, что 9 Мая как праздник долгое время никто не праздновал, никому в голову не приходило. Это был день скорби. И я считаю, вслед за бабушкой, что то, что из него сделали «ура-патриотический» праздник, – это и есть настоящее оскорбление памяти героев, которые умирали, чтобы война больше никогда не повторилась, а настроения, царящие на современных праздниках победы, связаны с национализмом, великодержавными амбициями и готовностью всё повторить.
– Как, по вашему мнению, мы могли бы отмечать 9 Мая сегодня, спустя 75 лет?
– Я считаю, что день окончания Второй мировой войны для нашей страны должен быть одной из самых скорбных дат в памятном календаре событий. В христианской традиции есть одна дата – Великая Пятница, время, когда все христиане вспоминают страдания Христа. В этот день не принято веселиться, есть и даже разговаривать друг с другом (без особой нужды). Вот таким мне видится праздник памяти победы в Великой Отечественной войне.
Парад Победы должен стать не демонстрацией военной мощи страны, а своего рода крестным ходом, участвуя в котором люди могли бы приобщиться к скорбям и страданиям наших предков. Победа невозможна без памяти о её реальной цене, иначе она обесценивается. Увы, сейчас мы видим другую картину. Люди, которые совершенно не знают, что такое война, легко и непринуждённо говорят о смерти, как бы посмеиваясь над ней. Но когда читаешь воспоминания очевидцев, то понимаешь, что многое нам ещё предстоит осмыслить, прежде чем мы по-настоящему осознаем всю глубину той катастрофы, которая вслед за революцией 17-го постигла нашу страну.
 Парад ветеранов на Красной площади, 1995 год. Фото: Виталий Савельев / РИА Новости
Парад ветеранов на Красной площади, 1995 год. Фото: Виталий Савельев / РИА НовостиДневник
Вместо предисловия
Вот снова я взялся за описание на этот раз моей военной деятельности. На этот неразумный шаг толкнула меня теперешняя обстановка, которая заставила взяться за карандаш раньше намеченного срока, т.е. пребывания в госпитале (почему я решил, что мне не оторвёт руки, сказать трудно).
Дневником эти записи назвать нельзя. Хронология будет соблюдена лишь приблизительно. Это скорее воспоминания, довольно, впрочем, свежие.
Пребывание в армии – целая эпоха в жизни каждого человека, а для моего мировоззрения и понимания жизни – хорошее испытание и опыт.
Конечно, заниматься моралью слишком скучно, и факты могут служить материалом для составления определённых впечатлений, которые зачастую не совсем удобно записывать.
Чебаркуль. СУАЦ. 16.05.43
1. Призыв
В Ташкенте объявлен призыв моего возраста. Ещё немного, и я уехал бы в Фергану, в Институт востоковедения, куда уже зачислили меня. И вот всё пошло кувырком… Мама, конечно, сильно волнуется, хлопочет о всяких «мерах» и заставляет меня бегать, часто зря, то в УзФАН, то к Вас. Вас. Пыхтя, и, обливаясь потом, сей египетский колосс идёт со мной то к более предприимчивому сотруднику Сергея Владимировича, то за советами к жильцам нашего дома, то в военкомат. Эти шаги можно оценить, лишь взглянув на его комплекцию и зная несколько его характер добродушного Манилова.
Всё это страшно надоело мне, и подчиняться всем требованиям, делать подчас ложные «шаги» заставляла мама и мой гуманитарный характер.
Прошла приписка к призывному пункту, несколько затихли хлопоты, и утихомирились наши с мамой отношения, которые в результате постоянных тревог и разного понимания вещей совсем испортились.
Я стал разбирать марки, гулять с мамой по парку, играть на бильярде, но всё время чувствовал себя на бочке с порохом.
И вот произошёл взрыв.
19 августа получил повестку явиться в РВК. Пошёл, ожидая очередного переучёта, вербовки, регистрации, осмотра, но только не категорического приказа явиться к 2 часам с вещами для отправки в арт. училище.
Рассуждать не приходилось. Все звонки по телефону не могли привести ни к какой отсрочке, и я принял этот удар как неизбежное. Зато мама никак не могла примириться с мыслью, что больше ничего нельзя сделать, и потому последние часы лихорадочных сборов были испорчены взаимными претензиями и обидами по этому поводу.
К назначенному времени вещевой мешок был набит указанным вещами, домашней снедью, я получил полный комплект благоразумных советов и наставлений не только от мамы, но и от «подруг» моей общительной матушки, пообедал «про запас», оставались только прощание и проводы. Решено было, что в РВК я пойду один: «долгие проводы – лишние слезы».
Расцеловавшись с дорогой мамой, с Элей и сопутствуемый бесчисленными пожеланиями жильцов дома, я было уж выбрался из дома, как был награждён прощальным поцелуем догнавшей меня уже на улице Оли, «дщери» Вас. Вас. Почему, отчего такая неразделённая нежность, понять трудно, а тогда я даже прослезился. Предвиделось многочасовое ожидание. Вспомнил, что забыл бумагу, ложку, не постриг ногти, позвонил домой, поговорил ещё раз с мамой, и скоро явились Эля с Олей и принесли бутылочку «крем-соды», которую я тут же и распил прямо из горлышка под сочувственные замечания какой-то мамаши, чей сынок основательно хлебнул не столь безобидного напитка и теперь отходил в арыке.
В компании двух дев прошёл не один час, ещё настрочил открытки. Только вечером отправились все на вокзал, меня провожали до трамвая.
Сели затемно в вагоны. Я занял верхнюю полку рядом с каким-то великовозрастным птенцом, чьи родители настойчиво просили меня не оставлять их Вовика, а ему наказывали держаться рядом. Наверное, такое доверие я возбудил своим солидным поведением и в военкомате, и на вокзале, где прощальный пафос сыновей и родителей достиг своего высшего напряжения. Ночью мы покинули Ташкент, направившись в Алма-Ату. Утомление принесло моментальный сон (так крепко спится под пощёлкивание колес!) и заглушило все мысли, терзания, тоску разлуки.
 Призывники перед отправкой на фронт. Лето 1941 года.
Призывники перед отправкой на фронт. Лето 1941 года.2. Дорога
Путь в Алма-Ату прошёл благополучно, без всяких приключений. В течение трёх суток мы не могли избавиться от домашних впечатлений и домашних запасов всякой съедобной всячины. Первые держались значительно дольше вещественных доказательств родительской любви, которые мы усердно уничтожали в любое время суток. Некоторые достигли к концу пути значительных успехов в этом отношении, правда, те, у кого были всевозможные деликатесы; у меня же мои баранки, хлеб и яблоки сохранились ещё и в Талгаре.
Такое изобилие создало благодушные отношения между попутчиками. Пассажиры разрабатывали больше женский вопрос, чем высказывали свои гастрономические познания и вкусы. Когда же люди голодны, ими овладевает непреодолимая потребность говорить о всевозможных «вкусностях», что подчас наводит на грустные мысли о слабости человеческой природы. Происходил и обмен – угощение и делёжка с ранеными, которые щедро платили всякими россказнями о своих боевых подвигах, приводя нас, неопытных новичков, в большое смятение от фронтовых трудностей.
А пока мы старались не думать об этом и пользоваться жизнью: ели, ели и ели, спали до онемения, многие основательно выпивали, играли в карты, домино, шашки, развлекали себя разговорами на популярную тему. В этом отношении всех превосходил разбитной студент мед. вуза Марк Сиробинский. Видя этого развязного, разговорчивого, общительного еврейчика, можно было сказать, что его счастливая способность чувствовать всегда себя в своей тарелке обеспечит видное положение в обществе подобных ему «пижонов». И действительно, он стал нашим взводным запевалой и ещё раньше проявил свои организаторские способности в Алма-Ате.
Идиллия в наших отношениях дошла до того, что я был в состоянии сочувствовать одному страдавшему особенно сильно с похмелья и предлагал ему опохмелиться… огуречным рассолом. Мои отношения с Вовкой Лыткиным, соседом по полке, полностью соответствовали желаниям его беспокойных родителей: мы занимались воспоминаниями душеспасительного свойства, поочередно выбегали на станциях закупить кое-чего, одновременно утоляли свой голод и жажду и были предельно вежливы друг с другом.
Вообще условия езды были хорошими, да и осень – превосходное время для путешествия по этим краям. На станциях – изобилие плодов земных, дешевизна поразительная: ведро прекрасных яблок стоило 50 р. Конечно, мы пользовались вовсю фруктами, молоком, маслом и всем, что выносили на продажу или обмен предприимчивые «дети природы».
Степи, горы, сады – всё носило отпечаток приближающейся осени. Выжженные солнцем будто бы безжизненные равнины с жёлтыми пятнами трав и шуршащими камышами на месте высохших озёр и водоёмов. Склоны гор ершились от скошенных трав и казались остриженными под машинку. Внизу, в долинах, зеленели сады с вкрапленными в их листву красными яблоками, желтыми грушами и сливами.
На бахчах, словно сытые поросята, нежились на солнце янтарные дыни, полосатые арбузы, грандиозные тыквы. И наряду с этой картиной мирного изобилия и процветания непрестанно встречаешь суровые напоминания беспощадной бойни. Эшелоны раненых; остовы оборудования и мёртвые тела станков вывезенных с запада заводов, сгруженные как попало у полотна ж.д.; толпы беженцев и эвакуированных на станциях и в селениях, и всё же ужасное вздорожание жизни в связи с этим, судя по рассказам старожилов, – вот богатые плоды с других полей, полей войны.
 Сдача хлеба государству. Алматинская область, 1941 год. Фото: Центральный государственный Архив кинофото документов и звукозаписей Республики Казахстан.
Сдача хлеба государству. Алматинская область, 1941 год. Фото: Центральный государственный Архив кинофото документов и звукозаписей Республики Казахстан.Проносясь, сидя на ступенях вагона, по хлопковым полям и виноградникам Узбекистана и пастбищам Киргизии, не приходилось забывать, куда влечёт упрямый паровоз столько молодых жизней. И я утешал себя, что, «может быть», послужу на дальнейшее процветание этой страны, хотя порой эти чувства и заглушались малодушными мыслями: «Что из того, что по-прежнему будет светить солнце и всё цвести, когда меня уже не будет в живых». Но это понятно в моём возрасте, жадном до жизни.
В Алма-Ату мы приехали днём, 25 км по жаре казались нам непреодолимыми пешком, и решено было ждать вечера или попутной машины. (...)
3. Превращение
В ближайшие несколько дней мы превратились из штатского «карантина» в курсантов РАУ. Метаморфоза эта произошла не сразу, ей предшествовала баня, экзамены, углублённая обработка наших вольных характеров и привычек. Последнее началось сразу. Всех новичков поручили одному выпускнику, красивому красотой сильного животного парню (его малахольные глаза помню до сих пор). Он вместе с начальником карантина, будущим моим командиром батареи, гонял нас, выбивая штатский дух: заставлял «давать ножку» или топтал минут 10 на месте, если мы по пути в столовую больше думали о предстоящем вкушении пищи, чем соблюдали порядок строя или не лихо горланили песни.
Начальник же, ст. лейтенант Васин, занимался неустанной тренировкой на построение по первому зову, бесконечными перекличками и сбором различных сведений, обещая по первому поводу дать для начала трое суток ареста, а потом наложить взыскание «на полную катушку». Но за всё время дело ограничилось только обещаниями и криком. В ближайшие дни мы прошли медкомиссию, сдали испытания по алгебре и русскому языку. Их проводили курсанты-выпускники, поражавшие нас своим замызганным видом и важностью ... (неразб. - «Стол»). Надо было иметь исключительное желание не попасть в училище, чтобы не написать те азы по математике и диктант, которые нам предложили, хотя мандатная комиссия больше смотрела на заключение врача, чем на результаты проверки. Большинство прекрасно понимали, что артиллерия лучше пехоты, и стремились попасть в число курсантов.
Всё же отсев произошёл, но отчисляли или универсальных идиотов, или совсем калек, если уж попадали такие, что не знали таблицы умножения или с ногами разной длины (у нас во взводе был такой хромоножка с разницей ног в 2 ½ см). Все эти дни мы бродили по скучному двору карантина, ожидая решения нашей участи. Даже у меня были сомнения из-за глаз. Наконец на 5-й день нас одели в форму; правда, она далеко не превратила нас в военных. Да и трудно было принять за русское воинство толпу мальчишек в серо-голубых рубахах и шароварах не по росту, ботинках и обмотках. «Милиционеры» – так называли мы себя за цвет и заправки наших мундиров.
 Бойцы всеобуча (всеобщее военное обучение) на занятиях. Алма-Ата, 1941 год. Фото: Центральный государственный Архив кинофото документов и звукозаписей Республики Казахстан
Бойцы всеобуча (всеобщее военное обучение) на занятиях. Алма-Ата, 1941 год. Фото: Центральный государственный Архив кинофото документов и звукозаписей Республики КазахстанПрошло немало времени, прежде чем рубахи перестали собираться складками на животе, а обмотки – сползать в самые неподходящие моменты. Переход в лагерь совершился ночью. По тёмным улицам спящего Талгара нас повели в баню, где виртуоз-парикмахер при свете луны прополол машинкой головы всем нестриженным. Я оказался в числе этих стоиков, и только при выпуске пришлось отдаться опять в руки этому мастеру своего дела, но на этот раз он стриг лейтенантов осторожно. Потом нас привели в лагерь и разместили в палатках.
Продолжение следует