Я часто повторяю студентам истину, сформулированную Михаилом Бахтиным: «роман находится в зоне непосредственного контакта с незавершённым настоящим». Но «настоящее» «Евгения Онегина» для нас давно завершилось, и требуются немалые усилия по реконструкции историко-литературного контекста, чтобы хоть отчасти представить, что чувствовали и понимали современники Пушкина. Роман Варламова как будто дразнит нас своим «незавершившимся настоящим», которое и завершено (события разворачиваются после 2014-го, но до 2022 года), и не завершено: и «поздние советские», и «лихие 90-е», и события второй мировой обнаруживают свою неразрывную связь с судьбой героев и с судьбой России. И связь эта не абстрактная, а живая, горячая, требующая ответа.
Центральная метафора романа – чёрный пламень, таящийся внутри земли и стремящийся вырваться наружу. В детстве один из героев, над которым подшутили его дачные соседи, пытался залить этот пламень водой, которую таскал в детских ведёрках из ближайшей канавы. Но и во взрослом мире этот пламень надо кому-то тушить! Этим и занимаются, каждый по-своему, три главных героя романа: филолог, интеллектуал Вячеслав, от лица которого ведётся повествование; его возлюбленная Катя Фуфаева, проходящая путь от девочки из Чернобыля до украинской правозащитницы; Петя Павлик, бизнесмен, общественный деятель, филантроп и философ.
Варламов – филолог, и, конечно, за спинами его героев маячат их литературные прототипы – от Лары и Ольги Ильинской до главного героя чеховского «Архиерея» с его двойным петро-павловым именем. Однако литературные аллюзии не превращают роман в постмодернистскую игру. То, что за очертаниями Купавны, дачного посёлка, где проходят детство и юность героев, встают образы то Обломовки, то «отдалённых деревень в Малороссии», где обитают старосветские помещики, скорее углубляет перспективу, чем становится поводом для иронии. Каким бы диким ни был поздний советский дачный быт, земля и слово хранят память об иной культуре, некогда здесь пребывавшей.
Загадочное название «Одсун» (чешское слово, обозначающее насильственное переселение народа) отсылает нас к истории судетских немцев. В Судетах, в семье местного священника отца Иржи, находит временное прибежище Вячеслав. Он живёт в доме с трагической историей – в конце Второй мировой войны хозяин этого дома, судья, покончил жизнь самоубийством. Прошлое рядом, оно тревожит, заставляет вглядываться себя: в доме есть камин, но его почему-то нельзя зажигать; хозяева выбрасывают цветы, принесённые в дом их гостем; на чердаке обнаруживается тайник, а в нём… детские игрушки.
Проникновение героя в трагическую историю земли, на которой он оказался, разворачивается параллельно с воспоминаниями о его первой любви и о России, выходящей из советского безвременья и пытающейся обрести своё новое лицо. Герои становятся свидетелями путча 1991 года, расстрела Белого дома 1993 года, событий в Беслане…


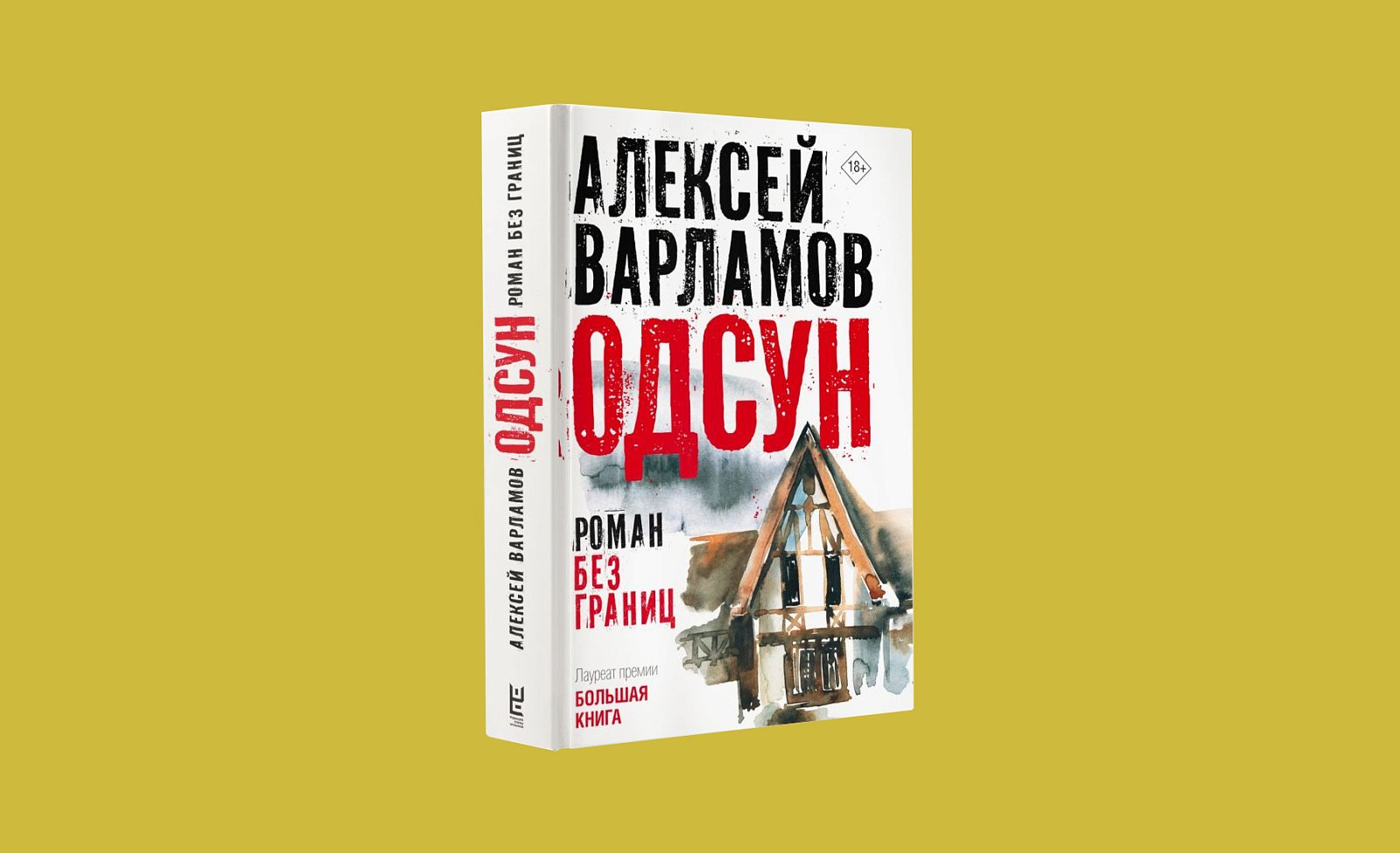
 Писатель Алексей Варламов. Фото: Новосильцев Артур / Агентство «Москва»
Писатель Алексей Варламов. Фото: Новосильцев Артур / Агентство «Москва»