Его немецкий – как лезвие. Острый, сдержанный, выверенный. Но даже в этом скупом, почти герметичном языке звучит главное: тоска по ответу. И – по молитве.
Молитва наоборот
Есть одно стихотворение, без которого невозможно говорить о Целане. Оно называется «Tenebrae» – «Тьма». Написано от лица тех, кто идёт на смерть. Молятся ли они? Нет. Они говорят Богу: «Мы рядом. Молись, Господь, молись нам». Эта строка, поначалу вырезанная из текста по совету друга, философа Отто Пёггелера, вернулась в книгу. Без неё всё остальное было бы ложью.
Рядом мы, Господь,
рядом, рукой ухватишь.
Уже ухвачены, Господь,
друг в друга вцепившись, будто
тело любого из нас –
тело твоё, Господь.
Молись, Господь,
молись нам,
мы рядом.
Криво шли мы туда,
мы шли чтоб склониться
над лоханью и мёртвым вулканом.
Пить мы шли, Господь.
Это было кровью. Это было
тем, что ты пролил, Господь.
Она блестела.
Твой образ ударил в глаза нам, Господь.
Рот и глаза стояли открыто и пусто, Господь.
Мы выпили это, Господь.
Кровь и образ, который в крови был, Господь.
Молись, Господь.
Мы рядом
(Пер. О. Седаковой)
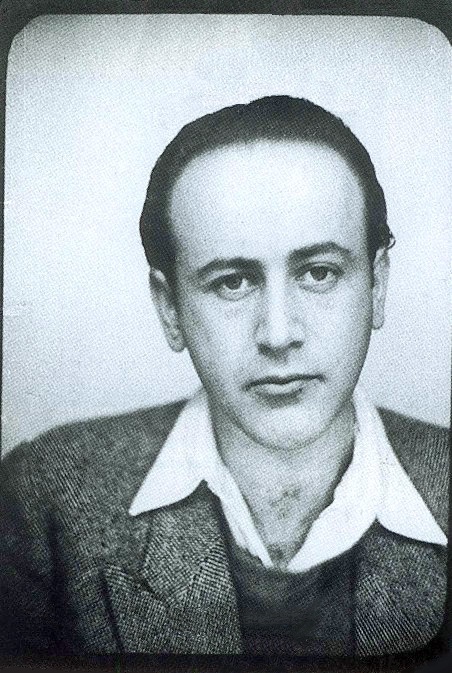 Пауль Целан. Фото: общественное достояние
Пауль Целан. Фото: общественное достояниеКому-то эта строка может показаться хулой. Но на самом деле это воззвание. Целан говорит с Богом так, как говорят пророки: не по уставу, а от боли. Не поклоняясь, а вопрошая. «Молись нам» – значит, будь с нами в этой боли. Значит, Ты, распятый, знаешь, что значит умереть. Значит, не прячься за облаками.
Так говорят только свои.
«Слава Тебе, Никто»
Бог у Целана не всегда Господь. Иногда – Никто. Иногда – Ничто. Но это не провокация и не насмешка. В иудейской традиции имя Бога нельзя произносить. Его заменяют – шёпотом, молчанием, намёком. И если Бог стал Никем – это не потому, что Его нет. А потому, что так больно, что невозможно сказать иначе.
В стихотворении «Псалом» он пишет: «Слава Тебе, Никто. Ради Тебя мы хотим цвести». Это псалом – но после войны. Слова, которые идут не вверх, а в никуда. Или – туда, где, быть может, всё ещё слышат.
Некому вновь замесить нас из персти
и глины,
Некому заклясть наш прах.
Некому.
Слава тебе, Никто.
Ради тебя мы хотим
цвести.
Тебе
навстречу.
Ничто
были мы, и есть, и будем
и останемся, расцветая:
Ничего –
Никому – роза.
С её
пестиком светлосердечным
тычинками небеснопустыми
с красным венцом
пурпура-слова, которое мы пели
поверх, о, поверх
терний.
(Пер. О. Седаковой)
Цветение в этом стихотворении – вопреки. Не от радости, а от упрямства. «Цвести навстречу» – и одновременно «цвести вопреки». Даже если ты – ничто. Даже если Бог – никто.
Последняя строка
Считается, что «Wirk nicht voraus…» – последнее стихотворение Целана. Оно завершает книгу «Бремя света». Здесь почти ничего не сказано напрямую. Только: «Не действуй наперёд… Стой внутрь… Проникнутый Ничто… Без молитвы…».
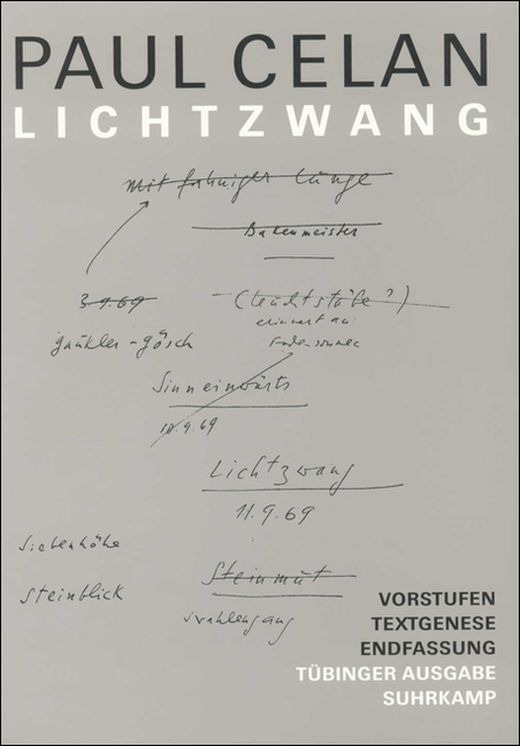 Книга «Бремя света». Фото: издательство Suhrkamp Verlag
Книга «Бремя света». Фото: издательство Suhrkamp VerlagЭто не прощание. Это сжатие. Это попытка услышать хоть что-то в тишине. Его Бог не отвечает. Его мир – треснувший. Его речь – осколки. Но он не замолкает. Даже в этом стихотворении есть движение: внутрь. В самую глубину.
Не действуй наперёд,
не посылай вовне,
стой
внутрь:
проникнутый основой Ничто,
налегке, без всякой
молитвы,
чуткий, по
пред-Писанию,
непревзойдённо,
я приму тебя
вместо любого
покоя.
(Пер. А. Ярина)
И в этой глубине он говорит: «Я приму тебя – вместо всякого покоя». Не смерть, не успокоение, не забвение. А принятие. Пусть и непонятного, немого, беспокойного. Но – принятие.
Молчание не означает отсутствия
Целан не нашёл ответа. Не нашёл покоя. Его уход – это не жест силы. Это поражение. Это момент, когда человек не справляется. И потому – не должен быть осуждён, но и не может быть оправдан.
Мы не должны романтизировать смерть. В этом году день ухода Целана совпал с днём Пасхи, и в этом можно увидеть не случайность, а знак. Потому что Пасха – это не о том, как всё хорошо. Это о том, что даже в абсолютной тьме возможен свет. Что даже в аду можно услышать голос. Что даже там, где человек больше не может верить, остаётся Тот, кто всё ещё зовёт.
Для верующих Бог не молчит. Он говорит – в тишине, в воскресении, в прощении. И если Пауль Целан не услышал ответа при жизни, мы можем надеяться, что он услышал его – за гранью. Что и его боль, и его мрак, и его отчаяние могут быть покрыты утешением. Мы знаем: Бог не замолкает навсегда. Даже если кажется, что ответа нет, Он есть. Даже если молитва звучит в пустоту, она может быть услышана. Даже если Бог – Никто, Он остаётся Тем, Кто был, есть и будет.
И потому сегодняшний день – это надежда. Для всех. И для Пауля Целана тоже. Надежда на то, что и его боль может быть принята. Что его прощение возможно. И что смерть – это не конец.



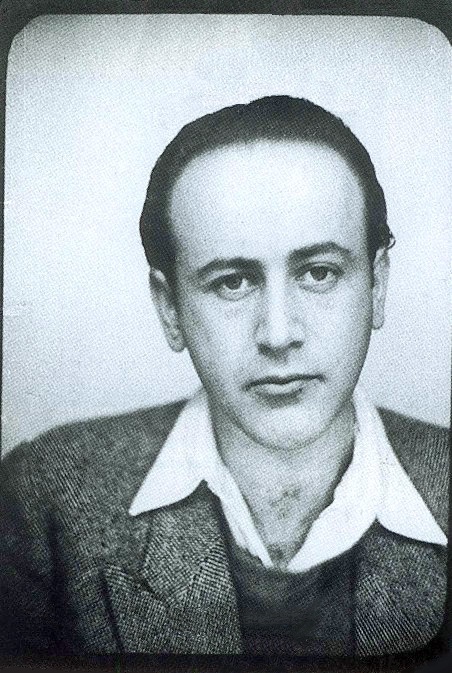 Пауль Целан. Фото: общественное достояние
Пауль Целан. Фото: общественное достояние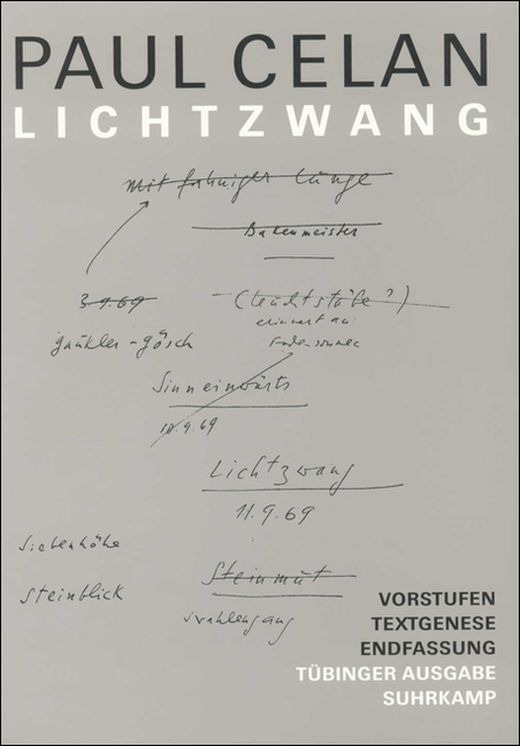 Книга «Бремя света». Фото: издательство Suhrkamp Verlag
Книга «Бремя света». Фото: издательство Suhrkamp Verlag