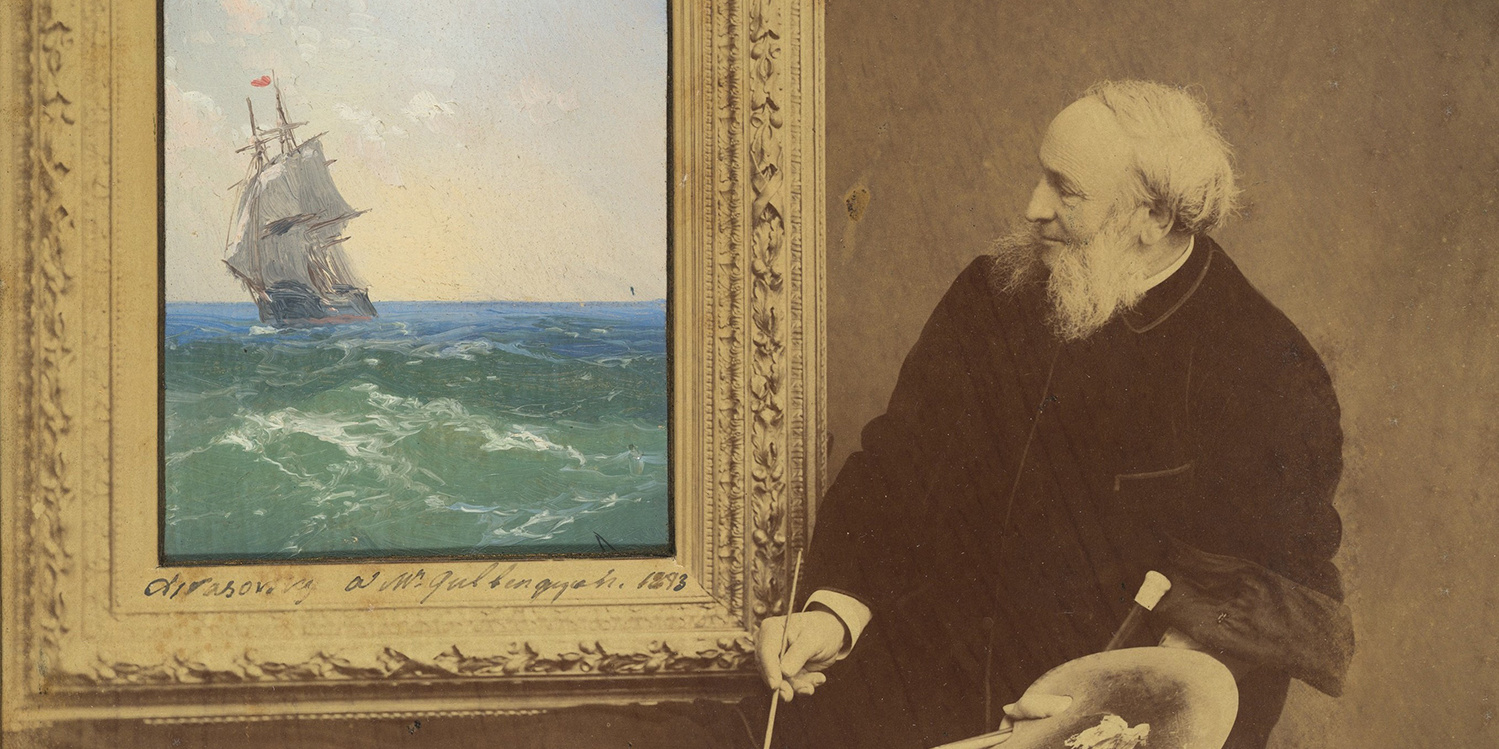Ивана Айвазовского все считают художником-маринистом – дескать, люди на его картинах специально выписаны так, чтобы показать всю малость и никчёмность человека перед лицом морской стихии.
Но Айвазовский рисовал не только море. У него есть несколько портретов, натюрмортов и жанровых сцен. Просто с малых лет он усвоил простое правило: художников-маринистов мало, а заказов на картины военно-морской тематики много. Поэтому рисуй море – и всегда останешься с куском хлеба.
Он и рисовал.
* * *
«Айвазовский. Автопортрет в детстве»
Будущий художник Иван Константинович Айвазовский родился 17 июля 1817 года в Феодосии. Это был уже третий сын в семье.
Раннее детство Ованеса (так тогда звали мальчика), несмотря на скудное существование семьи, проходило беззаботно. Он был предоставлен самому себе и большую часть дня проводил вне дома, как все ребята приморских городов.
Любимым его занятием было рисование. Сохранилась фотография с рисунка, сделанного Айвазовским уже в преклонные годы: художник изобразил себя маленьким мальчиком, рисующем на стене громадную фигуру солдата с ружьем на плече. Сбоку изображены две фигуры в восточных одеждах, наблюдающие за молодым дарованием.
Распространённая в Феодосии легенда говорит о том, что за подобным занятием Айвазовского застал городской голова Александр Казначеев, знакомый отца юного художника, который обратил внимание на склонность мальчика к рисованию. Чтобы поощрить начинающего художника, Александр Ильич подарил ему ящик акварельных красок. Позже, когда Казначеев был назначен таврическим губернатором, он подписал и прошение о зачислении ученика второго класса гимназии Айвазовского в Петербургскую Академию художеств.
 Портрет А.И. Казначеева кисти Айвазовского. Фото: Русский музей
Портрет А.И. Казначеева кисти Айвазовского. Фото: Русский музей* * *
«Этюд воздуха над морем»
В Академии Айвазовский был зачислен в класс профессора пейзажной живописи Максима Никифоровича Воробьева. Но куда более важным учителем Айвазовского стал французский маринист Филипп Таннер, получивший в Петербурге ряд заказов от Николая I.
Таннер избрал своеобразный метод преподавания. Будучи перегружен заказами, он поручал своему ученику выполнение подготовительных рисунков с натуры: видов Петербурга, Петропавловской крепости с Троицкого моста и т. п., которыми он пользовался для своих картин. Также Таннер преподал ученику универсальную художественную рецептуру изображения морской волны, пены, облаков и земли, чтобы тот помогал ему выполнять многочисленные заказы на темы морских баталий.
Кроме того, Таннер поручал Айвазовскому приготовление красок, и в этом мастерстве Айвазовский достиг подлинных высот.
Вскоре Айвазовский почувствовал стремление к самостоятельной творческой работе и охотно принял предложение президента Академии Алексея Николаевича Оленина написать самостоятельную композицию «Этюд воздуха над морем» к осенней выставке 1835 года.
 Одна из ранних работ Айвазовского – «Вид на взморье в окрестностях Петербурга». Фото: Государственная Третьяковская галерея
Одна из ранних работ Айвазовского – «Вид на взморье в окрестностях Петербурга». Фото: Государственная Третьяковская галереяОднако размещение этой картины на выставке без ведома учителя вызвало взрыв ревности и негодования у Таннера. В результате картина, за которую Совет Академии уже присудил Айвазовскому первую серебряную медаль, была снята с выставки по распоряжению самого императора, а молодой художник, так блестяще начавший карьеру, впал в немилость.
Впрочем, вскоре несправедливость нападок Таннера на Айвазовского стала очевидной и при дворе – за Айвазовского заступился профессор Академии художеств А.И. Зауервейд. Прославленный художник-баталист давал уроки рисования великим князьям и княжнам, иногда на этих занятиях присутствовал и сам император. Зауервейд решился поручиться от лица профессоров Академии за честность и порядочность Айвазовского, ведь тот, обычный ученик, получил приказ писать для выставки лично от президента Академии и не смел ослушаться. В итоге император велел представить ему снятую с выставки картину, уже на следующий день она была приобретена для Зимнего дворца, художнику выдана тысяча рублей ассигнациями, и он был прикомандирован к великому князю Константину Николаевичу во время практического плавания по Финскому заливу летом 1836 года.
* * *
«Большой рейд в Кронштадте»
Зарисовки во время плавания по Финскому заливу дали Айвазовскому большой материал. Вскоре на выставке были выставлены уже семь картин Айвазовского, которые имели значительно больший успех, чем работы Таннера.
 Каротина И.К. Айвазовского «Большой рейд в Кронштадте». Фото: Русский музей
Каротина И.К. Айвазовского «Большой рейд в Кронштадте». Фото: Русский музейО картинах Айвазовского упоминалось в «Художественной газете»: «Талант художника поведёт его далеко. Изучение натуры откроет ему остальные сокровища, о которых теперь талант только догадывается… Произведения Айвазовского поражают, кидаются в глаза. Признаемся, мы ожидаем, что они вскоре не будут так резко эффектны, но зато глубоко западут в душу зрителя…».
Тем не менее Айвазовскому за выставленные работы была присуждена первая золотая медаль и в виде исключения за выдающиеся успехи в живописи сокращён курс академического обучения на два года – с тем, чтобы это время было использовано художником для работы на родине. Ему было поручено написать ряд картин, изображающих крымские приморские города.
* * *
«Высадка у Субаши»
Айвазовский в 1838 году возвращается в Крым, где в течение двух лет наряду с видами Ялты, Феодосии, Керчи, Севастополя, написанными с натуры, он пишет и ряд картин для себя.
Во время поездки в Крым он пользовался всяким случаем, чтобы ближе и всесторонне изучить море и набраться впечатлений.
 Картина И.К. Айвазовского «Высадка у Субаши». Фото: Самарский областной художественный музей
Картина И.К. Айвазовского «Высадка у Субаши». Фото: Самарский областной художественный музейЗдесь он впервые сближается с адмиралами Черноморского флота, которые дали художнику возможность ознакомиться с конструкцией военных кораблей, которые он в дальнейшем с большим мастерством и знанием изображал в морских баталиях. Также он участвовал в высадке морского десанта, после чего написал первую батальную картину «Высадка у Субаши».
Один из современников так описывал этот бой: «Военные дейстия открылись бомбардировкою черноморскаго побережья, после которой десантные войска при высадке в долине Субаши (форт Лазарева) из 7000 человек высадились на берег, тогда черкесы дрогнули и бежали в лес. Иван Константинович высадился на берег в рядах атакующих русских воинов и находился довольно долго на берегу, вооружённый только пистолетом и портфелем с бумагой и рисовальными принадлежностями. Картина, по описанию художника, при заходящем солнце и снующих по морю катерах была бы очень эффектной, если бы не свист пуль, пролетавших над головой, и груда кровавых тел у самого берега…».
Поездка в Крым была удачной для художника. Она завершилась командировкой в Италию, куда Айвазовский уехал в 1840 году.
* * *
«Восход солнца в Неаполитанском заливе»
Первые месяцы жизни в Италии Айвазовский вспоминал так: «Когда я уезжал в Италию, мне твердили все, в виде напутствия: “С натуры, с натуры пишите!” Живя в Сорренто, я принялся писать вид его с натуры с того же самого пункта, с которого в былые годы писал Щедрин, и, начиная с неба до первого плана, воспроизвёл с самой фотографической точностью решительно всё, что было перед моими глазами. Писал я ровно три недели, затем так же написал вид Амальфи. В Вико написал две картины на память: закат и восход солнца. Эти две картины вместе с видом Сорренто были выставлены мною – и что же оказалось? Толпы посетителей выставки, обходя вид Сорренто, как место, давно знакомое и приглянувшееся, толпились перед картинами, изображающими “живую природу”, и весьма лестно отзывались о них. Между тем вид Сорренто я писал три недели, а эти две картины не долее как по три дня каждую, но я писал их под наитием вдохновения, а оно-то необходимо художнику…»
 Картина И.К. Айвазовского «Восход солнца в Неаполитанском заливе». Фото: Государственная Третьяковская галерея
Картина И.К. Айвазовского «Восход солнца в Неаполитанском заливе». Фото: Государственная Третьяковская галереяНа следующую выставку Айвазовский выставил три картины, написанные не с натуры, а «под впечатлением», как он тогда говорил.
Прежде всего пейзаж «Неаполитанский залив в лунную ночь».
Вторая вещь – «Кораблекрушение», в которой Айвазовский впервые изобразил шторм: громадные волны гонят на камни лодку и плот со спасшимися моряками. Третья работа – «Восход солнца в Неаполитанском заливе», которая сделала Айвазовского одним из самых известных художников в Риме.
Художник Александр Иванов писал: «Гайвазовский исключительно занимается морскими видами, и так как в этом роде нет здесь художников, то его заславили и захвалили. Он много работает на заказ, имея пенсию на шесть лет, и, следовательно, будет иметь добрый капитал».
* * *
«Сотворение мира. Хаос»
В Европе его сопровождал оглушительный успех и внимание сильных мира сего. С ним пожелал познакомиться неаполитанский король Фердинанд II Карл и лично посетил студию, где приобрёл картину, на которой был изображён неаполитанский флот. Кроме того, покупателями художника стали французский и русский посланники – герцог де Монтебелло и граф Гурьев, а также и сам папа римский Григорий XVI, который пожаловал Айвазовскому золотую медаль в знак благоволения и взял для коллекции Ватикана полотно «Хаос».
 Картина И.К. Айвазовского «Сотворение мира. Хаос».Фото: San Lazzaro degli Armeni
Картина И.К. Айвазовского «Сотворение мира. Хаос».Фото: San Lazzaro degli ArmeniНиколай Кузьмин, первый биограф Айвазовского, писал: «До представления этой картины папе Григорию XVI картина была с глубочайшим вниманием осмотрена многими прелатами и кардиналами, которые целой комиссией явились в его студию, но были очарованы, при всём своём предубеждении к русскому художнику, новым его творческим полотном. Мрачное смешение стихий над “безводной и пустой землёй” и над бездной озаряла на картине комета, которая при пристальном на неё взгляде являла в себе очертание божественнаго облика Саваофа, передавая слова книги Бытия “Дух Божий носился над водой”».
* * *
«Морское сражение при Наварине»
В 1844 году Айвазовский вернулся в Россию как мировая звезда. Государь император высочайше повелеть изволил академика Айвазовского «причислить к Главному морскому штабу его императорского величества с званием живописца сего штаба с правом носить мундир Морского министерства и с тем, чтобы звание сие считалось почётным…»
 Картина И.К. Айвазовского «Морское сражение при Наварине». Фото: Военно-морская академия им Н.Г. Кузнецова
Картина И.К. Айвазовского «Морское сражение при Наварине». Фото: Военно-морская академия им Н.Г. КузнецоваАйвазовский становится своим человеком в Адмиралтействе. Ему предоставляются чертежи кораблей, рисунки оснастки судов, вооружения и т. д. Рассказывали, что, когда Айвазовскому понадобилось проверить свои наблюдения над полётом ядра рикошетом по водной поверхности, в Кронштадте специально для него устроили стрельбы боевыми зарядами.
* * *
«Старая Феодосия»
Ранней весной 1845 года художник неожиданно для окружающих уезжает в Феодосию, почувствовав непреодолимое влечение в родные места.
«Это чувство или привычка, – писал он родным, – моя вторая натура. Зиму я охотно провожу в Петербурге... но чуть повеет весной, и на меня нападает тоска по родине – меня тянет в Крым, к Чёрному морю…»
 Картина И.К. Айвазовского «Старая Феодосия». Фото: Национальная галерея Армении
Картина И.К. Айвазовского «Старая Феодосия». Фото: Национальная галерея АрменииНо в этот раз Айвазовский решил навсегда покинуть Петербург, несмотря на увещания его друзей, обеспеченность большим количеством заказов, дававаших ему возможность жить полной жизнью избалованного вниманием столичного художника.
Вместо столичной богемной жизни Айвазовский предпочёл жизнь в уединении. Он построил в Феодосии – на самом краю города, на берегу моря, – роскошную виллу в «мавританском стиле» по собственным чертежам (рассказывали, что Айвазовский забыл при этом нарисовать лестницу на второй этаж) с огромной мастерской.
В Феодосии Айвазовский зажил широкой открытой жизнью. Его дом по вечерам был полон народу.
К примеру, осенью того же 1846 года он устроил в Феодосии выставку своих картин, посвящённых десятилетию (sic!) своей творческой деятельности, и созвал гостей со всего Крыма. Гости съехались из Керчи, Симферополя, Севастополя, на праздник прибыло шесть военных кораблей. Очевидцы писали: «Музыка гремела на них неумолкаемо, с сумерек реи были унизаны разноцветными фонарями, и переливчатые их огни по временам бледнели перед зажигаемыми по бортам фалшрейерами».
Ужин был накрыт на триста человек, праздник был организован с чисто восточным обилием и пышностью. Этим праздником Айвазовский хотел отметить десятилетие своей художественной деятельности.
* * *
«Вид Константинополя при лунном освещении»
В то же время Айвазовский не терял связей и с Петербургом. Так, летом 1846 года Айвазовский сопровождал великого князя Константина Николаевича в его плавании к берегам Турции. Это путешествие дало ему возможность выполнить громадное количество карандашных рисунков, послуживших в дальнейшем материалом для композиций. В это время им были нарисованы с удивительной тонкостью и изяществом десятки видов Константинополя и бухты Золотой Рог.
 Картина И.К. Айвазовского «Вид Константинополя при лунном освещении». Фото: Русский музей
Картина И.К. Айвазовского «Вид Константинополя при лунном освещении». Фото: Русский музейОбогащённый новыми впечатлениями, Айвазовский по возвращении в Феодосию принялся за работу и к осени того же года написал тринадцать картин, работая еще интенсивнее, чем в Петербурге. Весь день был в его распоряжении, и он проводил его в мастерской.
* * *
«Девятый вал»
Свою самую знаменитую картину – «Девятый вал» – художник написал в 1850 году, взяв за основу собственное воспоминание, как он попал в шторм у берегов Испании в Средиземном море. И только чудом судёнышку с Айвазовским удалось спастись. Причём в некоторых газетах уже успели сообщить о гибели русского живописца. Однако сильно повреждённое судно спустя несколько дней вернулось в порт.
 Картина И.К. Айвазовского «Девятый вал». Фото: Русский Музей
Картина И.К. Айвазовского «Девятый вал». Фото: Русский МузейНазвание же Айвазовский взял из народного поверья о том, что во время волнения на море, вызванного сильным ветром, могут встречаться настоящие волны-убийцы, собирающие в себя энергию сразу нескольких волн. Высотой такие волны могли достигать 25–30 метров – только представьте себе этот вал воды высотой с пятиэтажный дом!
«Девятый вал» неслучайно стал самой известной картиной Айвазовского: в этом полотне художник превзошёл самого себя и всё, что он когда-либо написал. И в этой картине Айвазовский отрёкся сразу от двух своих принципов.
Первый касается людей: когда смотришь на полотна Айвазовского, понимаешь, что люди там присутствуют только как фигурки для масштабирования происходящих природных явлений стихии, что они совершенно необязательны для сюжета картины. Но на полотне «Девятый вал» именно люди являются центром сюжета. Более того, один из спасшихся моряков чётко указывает нам, где именно стоит искать этот самый девятый вал.
А, кстати, где эта самая гибельная волна?
На самом деле на картине её нет: волны, написанные Айвазовским, – это не шторм, тем более не буря или ураган. Вполне себе обычное волнение. Посмотрите, как статично (если не сказать лениво) стекают потоки воды с обломка мачты.
Но огромная волна-убийца идёт на спасшихся моряков со стороны зрителей – именно на этот чудовищный вал воды в ужасе указывает один из матросов.
Вполне возможно, что как раз первая волна-убийца разбила вдребезги турецкую галеру – кадыргу (моряки на картине – вылитые турки), а вторая сейчас прикончит всех, кто выжил.
Саму волну Айвазовский решил не писать, но только ужас от ожидания смерти. Видимо, тогда в море он понял, что есть пределы и для человеческого мастерства и что написать этот накатывающий ужас просто невозможно.
Зрители всё равно не поверят, что такое бывает.
Точно так же Айвазовский не написал и последствия наката – пусть каждый зритель решает, выжили моряки или нет.
В конце концов, они живы, пока ещё жива надежда спастись. Один из моряков, не обращая внимания на приближающуюся волну, машет красным платком товарищам в воде: «Скорее сюда! Вместе мы спасёмся!».
Продолжение следует