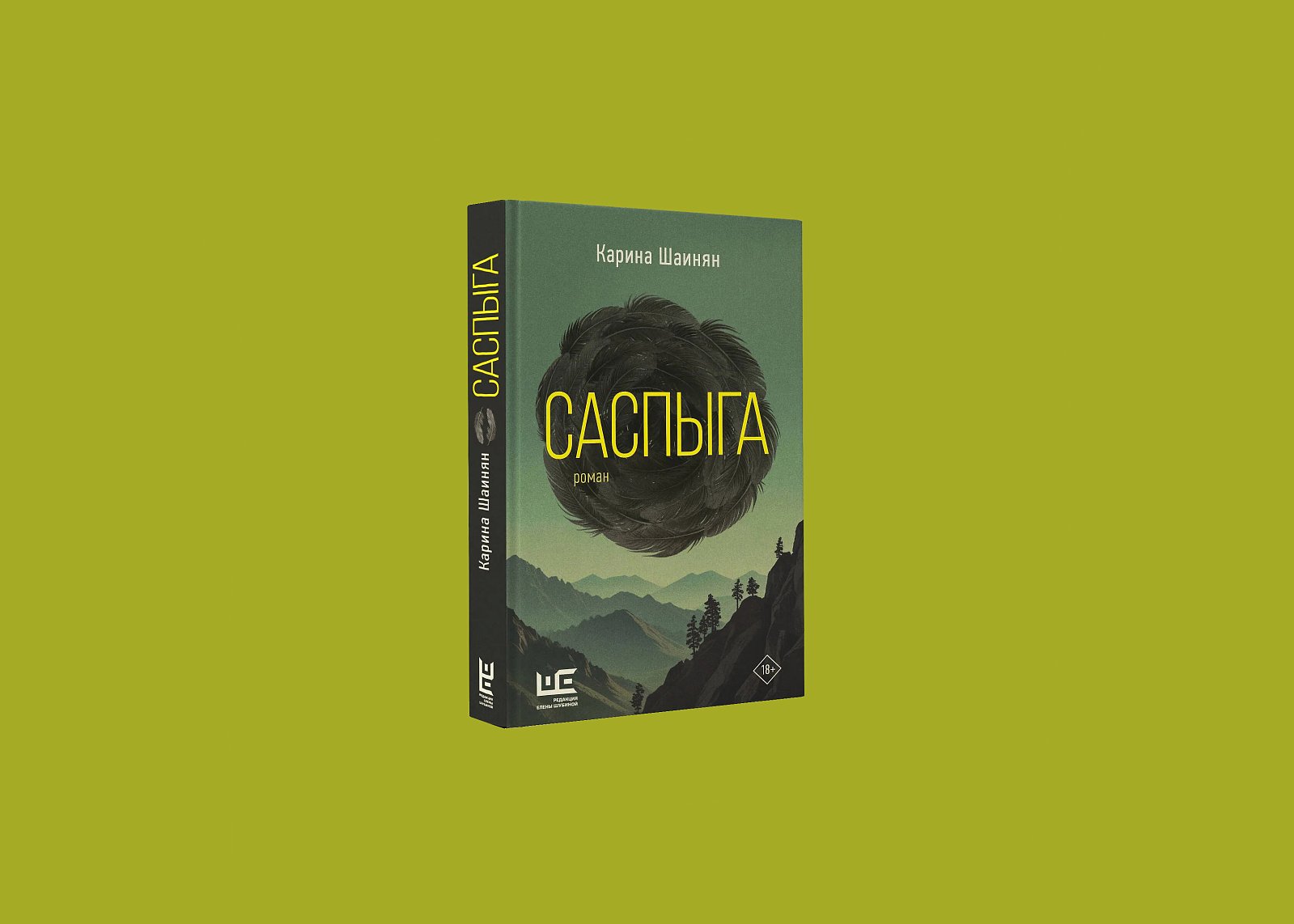Повариха Катя влюблена в Алтай, куда годами приезжает работать на турбазу. Ей под сорок, в эти места она попала туристкой, но освоилась и в тайге, и в седле, а восторг от летних пейзажей – со скалами, рыжими маралами, полыхающими пионами и ядовитым аконитом – не прошел. Алтай – вообще самостоятельный герой романа. Катя по-прежнему не наступает на цветы, хотя сентиментальной её не назовешь, более того, есть у неё своя тайна – она ела мясо саспыги. Так местные называют диковинное животное с пухлым телом и сморщенным личиком. Саспыги нет в природе, но людям она иногда показывается, но не сулят эти встречи ничего хорошего: мёртвые прибиваются к живым, а люди забывают прошлое, подчас неудобное. Мясо саспыги – заветное лакомство: нет ничего вкуснее, а тот, кто попробует, избавится от печалей. Но саспыга – как гамаюн, о котором в романе сказано как о «чудесной птице без крыльев и ног, которая всю жизнь летает по небу, а на землю падает только мёртвой»…
 Карина Шаинян. Фото: shainyan.livejournal.com
Карина Шаинян. Фото: shainyan.livejournal.comТуристка Ася – человек неприметный, как камень, – не вернулась из похода. На её поиски тут же бросается бывший возлюбленный, у которого вместо имени прозвище (Панночка), и Катя. Она скоро находит Асю, которая вовсе не потерялась, а сбежала, и вот тут начинается изнурительное для обеих героинь и читателя путешествие, тропы которого переплетают миры живых и мёртвых и уводят в глубины подсознания и страхов. Не случайно автор дала коням девушек говорящие имена: Караш и Суйла. Караш – сын и посланник правителя царства мёртвых. Суйла носит имя алтайского бога неба.
Катя пытается понять, куда и почему направляется Ася, но та, оказавшись особой тревожной и нервной, не настроена на объяснения. В романе при обилии диалогов прямых вопросов и ответов нет: люди общаются намёками, знаками, взглядами и – молчанием. Это может утомлять читателя не меньше подробных описаний эмоций, неведомых растений и терминов, понятных только специалисту (путо, чомбур, арчимак), но на то и расчёт: пространство тайги понятно и близко своим, а чужие там напрасно ищут спасения. Да и разве современному человеку не привычен язык молчания?
Ася – корректор, она очень правильный, ответственный человек при всей странности её поступков, при этом тонко воспринимающий слова, правду и ложь. «Я поняла, что с каждым словом либо вру, либо остаюсь непонятой, и все, что я могу сказать,– бессмысленно. И, наверное, я просто устала, но решила, что ускользать не так уж и плохо», – попыталась объяснить она Кате, которая становится для своей подопечной помощником-проводником и свидетелем весьма странных вещей, от которых в том числе и пыталась спастись Ася, желая вырваться из реальности, в которую плохо вписывалась. Да, она спасалась не только от назойливого жениха, который к тому же… умер еще до её бегства в горы. Впрочем, пересказывать мистический роман – дело гиблое, к тому же такой, в котором сюжетный остов весьма зыбок.
У создания страшного множество рычагов. Кого-то пугает окровавленный труп и вспоротый живот, а кого-то – предчувствие необратимого, которое внушается читателю шорохами, предчувствиями, снами. Так вот физиологически ужасных, отвратительных сцен в романе Шаиян нет. Читатель вслед за Катей немеет, холодеет и дуреет от непонимания происходящего: «Я просыпаюсь, давясь стоном ужаса, задыхаясь, как от долгого бега. Мочевой пузырь опять переполнен. По груди медленно стекает струйка липкого, отвратительно холодного пота. Снова тяжело бухает о ребра сердце, и страшно хочется пить».
 Фото: Nick Night / Unsplash
Фото: Nick Night / UnsplashА ужасаться есть чему: кони перестают есть, но не дохнут, телефон звонит там, где нет связи, а мёртвый жених упорно воскресает и докучает своей настырной заботой. Мёртвые соседствуют с живыми, а живые не всегда понимают, где заканчивается сон и морок. И чем дальше девушки удаляются от базы, тем сложнее их испытания: то встречи с мертвецами, то буран, а тут еще и Ася нестерпимо чешется до крови. О крови в романе сказано много: она льётся из ран, чувствуется во рту, отдаёт во вкусе съедаемого мяса. Кровь – пугающее предостережение катастрофы и метафора желанного запретного удовольствия. «У дождя вкус мела, металла и замёрзшей малины, дедовой жареной свинины с тархуном, маминых блинчиков, китайской утки, разделённой с подругой, стейка, съеденного с любовником, соли и меда, зрелого сыра, крови из разбитой губы, пота на чужой коже, разложения; у дождя сводящий с ума вкус саспыжьего мяса».
А пернатая юркая саспыга неотступно следует за девушками, скребёт лапками, посылает сигналы. Люди затевают охоту на неё, но главное: в глаза ей не смотреть. Действительно, стоит ли заглядывать в глаза своей жертве? И можно ли жить, «не ведая печали», зная, что пролил кровь? Хищная гонка за выгодой, будь то дружба с застройщиками, которые налепят в тайге коттеджей, или поиск саспыжьего мяса – это предательство, которое меняет человека. И это замечает не утратившая способность чувствовать Катя, принимающая правила того и этого миров. Именно ей и предстоит попытаться спасти Асю и взглянуть в глаза саспыге, чтобы определиться, что выбрать: удовольствие или совесть. Ведь «саспыгу можно не есть»…