– Как опыт взросления на недетских книгах на вас повлиял?
– У меня теперь есть что возразить взрослым, которые говорят при виде любых экспрессивных иллюстраций: «Ой, ребёнок такого испугается». Ха-ха, мы, дети художника, видели много разных картинок и не испугались. Поскольку в моём детстве не было прямо жёсткого деления на взрослое и детское, я росла без розовых очков, которые взрослый иногда пытается надеть на ребёнка со словами: «Это слишком рано, слишком сложно, слишком мрачно, мы не будем это обсуждать». А ещё у меня теперь есть предположение, что детям прямо близок эпос, потому что они не задают эти скучные вопросы типа: зачем герой полез в царство мёртвых или сломал свой меч о скалы, как Роланд. Детям, наверное, просто ближе мотивации эпических героев, потому что они тоже живут в мире, где всё огромное: предметы, чувства.
В общем, я, взрослея, тоже читала младшим совсем не детские книги, например, стихотворение «Дурман» Ивана Бунина. Не для того, чтобы напугать, а просто делилась тем, что саму трогало. Отсутствие фильтров преувеличенного родительского контроля хорошо работает в связке с христианством. Подчеркну: преувеличенного. Нам бы и в голову не пришло специально акцентироваться на насилии, жестокости, просто если я и родители видели текст, который нас самих восхищал, прикидывали, сможем ли о нём поговорить с младшими, и получалось, что не только о детском можно с ребёнком говорить. Года в три можно научить ребенка читать «Символ веры». А там, если читать осмысленно, очень много взрослых тем. Получается, сама традиция христианского текста даёт хорошую рамку для разговора о табуированном. Я знаю очень мало людей, которые купят трёхлетке книжку о смерти, при этом очень немногие задумываются о смысле читаемых ими молитв. При этом, если спросить человека, не боится ли он на ночь молиться с ребёнком, он удивится вопросу. Другое дело, что и молятся на ночь немногие, наверное. А ещё у меня в детстве, видимо, из-за постоянного чтения и пения на церковнославянском сформировалось (или обострилось?) языковое чутьё.
– Автобиографическая часть книги ломает стереотипы о верующих, которые людям, далёким от православия, видятся хмурыми занудами с поджатыми губами. От современной девушки с татуировками знания тропарей не ждёшь. Вас как верующую часто пытаются экзотизировать?
– Я хорошо представляю себе порядок церковной службы, всегда буду христианкой, хотя сейчас совершенно светский человек. Не отделяю себя от православия, но сейчас ищу опоры вне официальной Церкви. Почему я решилась в книге упомянуть о своей семье? Потому что люди любят экзотизировать любой незнакомый опыт. «Ты выросла при храме – скажи что-нибудь на церковном!» Мои невоцерковлённые друзья, узнав о моём православном опыте, задают мне вопросы: «А как Церковь относится к тому-то?» или «Ой, а если нагрешить, через сколько Бог накажет?». Эти вопросы меня развлекают. Считаю своим небольшим гражданским долгом не проповедовать, а отвечать на простые вопросы о вере просто. У меня есть татуировка на груди как нательный крест – в виде рыбы с акронимом «ихтис» вместо чешуи, это довольно старая традиция. Мне хочется рассказать, что христианство – довольно гибкое учение и не стремится наказывать всех за всё, а даёт пищу для ума и надежду. Мы недавно с одной знакомой пошли на службу, она крещёная, но не воцерковлена. Она надела косынку (это она знала) и спросила, нужно ли паспорт брать с собой. Меня это сначала удивило: думаю, можно же было погуглить? А потом я сообразила, что христианство, наверное, людям, которые просто о нём «что-то слышали», кажется очень закрытым, даже засекреченным, что ли, и не приходит в голову подходить ближе, потому что вроде как неловко и даже страшно.
 Фото: Новосильцев Артур / Агентство «Москва»
Фото: Новосильцев Артур / Агентство «Москва»– Какие были ожидания от Петербурга? С какими стереотипами о читающих людях, книжных магазинах расстались?
– От Петербурга ожиданий не было вообще: весь этот контекст про культурную столицу прошёл мимо меня. Я знала, что в Питере были Ахматова и Бродский, но я ехала из Орловской области, а Орёл называют литературной столицей России, потому что там жили Фет, Тургенев, Апухтин, отчасти Лесков, Жуковский и Бунин. Так что у меня было ощущение, что все города Европейской части России перенасыщены литературной историей примерно одинаково. А о местной интеллигенции я вообще не думала, потому что была очень одиноким человеком из замкнутой среды (ни с кем, кроме членов семьи, не общалась) и думала, что на новом месте ни с кем не буду контактировать, просто буду одиноко бродить по городу и сидеть у воды в свободное время. Первые два года так и было: ни с кем особо не общалась, даже на общие светские темы. Работать в книжный пошла после работы в «Теремке» с мыслью, что недостаточно много читала и буду постоянно чувствовать себя глупой. Оказалось, что больше разговоров о книгах надо заниматься поисками канцелярских мелочей: сверить штрих-коды и количество сорока видов ластиков, переоценить скотч. Вот к таким задачам не была готова, училась по ходу. А ещё не была готова к тому, что перестану где-то на год читать вообще: не было времени и сил.
– В магазин люди приходят с разными целями. Если попытаться суммировать их и проанализировать, то что получится?
– За разным: кто-то – за новыми мыслями, кто-то – за подтверждением имеющихся, кто-то – за общением, кто-то – за одиночеством. Когда долго наблюдаешь за теми, кто приходит в храм и книжный магазин, понимаешь, что у них много общего. И храм, и книжный магазин – место общения. И там, и там люди склонны соблюдать ритуальные правила – например, не шуметь. Но формальные правила не должны становиться препятствием для получения смысла. Потому не хочется быть бабкой на пороге храма, которая ворчит, мол, свечку держите не тем концом. Если бы мне не были интересны люди, я бы быстро выгорела на своей работе. Любая работа с людьми много даёт – историй, пищи для ума, гибкость тренирует, скорость реакции, но деформирует и порой с трудом выносима. Именно об этом я и пишу в книге. «Если это твоё призвание, работа будет тебе даваться легко» – вредный миф. Любая осмысленная работа – это, вообще-то, сложно.
– В книге подробно рассказано о неприятных клиентах. Какие типичные примеры вы бы назвали?
– Неприятные покупатели очень разные. Глобально, наверное, их два типа: люди, которым плохо в моменте и они пытаются свою боль выплеснуть на собеседника, и люди, которые просто не умеют думать и мыслят стереотипами. На смене в «Во весь голос» я вижу не больше ста человек, в «Буквоеде» видела около двух тысяч. Соответственно, чем шире выборка, тем больше в ней неприятных людей. Когда постоянно слышишь, например, «Ой, у женщин плохо с точными науками», «Книжки с картинками – это для малышей» или «Современные писатели никуда не годятся» – устаешь, конечно. А о продавце в книжном магазине накладываются друг на друга два стереотипа. С одной стороны, «торговец – хитрый проныра», это неуважаемо. С другой – ты продаёшь книги, источник знаний. Получается конфликт низкого и высокого. Если покупатель выясняет, что ты не тупица и что-то читал, от тебя немедленно требуют твёрдых знаний и гигантской эрудиции – из крайности в крайность. Быть просто влюблённым в книги дилетантом ты как бы не имеешь права.
 Фото: Кузьмичёнок Василий / Агентство «Москва»
Фото: Кузьмичёнок Василий / Агентство «Москва»– В одной из глав вы заметили, что попытка «Буквоеда» обойтись без консультантов провалилась. Почему, как вы считаете?
– Консультант – это проводник и переводчик. Абсолютно важных книг, нужных всем, в мире нет. Каждая книга нужна человеку в свое время, и консультант может дать важные подробности, которые подтолкнут взять книгу в руки именно сейчас.
– О чем готовы читать люди в сложные времена?
– В сложное время людям не хочется говорить об актуальном. Скажем, во время ковида, читать об этом не были готовы. У людей были свои представления об этой ситуации, а собеседник в виде книги был не нужен, возможно, они его нашли в реальности, а может, бегут от подобного разговора. Скорее, они в трудное время придут за уже знакомым или за подчеркнуто легким.
– Кто чаще всего покупает книги?
– Женщины чаще покупают художественную литературу и детскую. Первый тип покупательниц – девушки 19 – 30 лет, они покупают много, еще помнят свои подростковые увлечения. Второй тип активных покупательниц – женщины 50-70 лет. В 35-50 начинается спад. Мужчины тоже могут читать много, но они не готовы перебирать и рисковать. Нередко приходят с запросом: «Дайте мне лучшую книгу по такой-то теме».
– В книге вы упоминаете, как на тренинге продаж в «Буквоеде» услышали, что книги «это роскошь». А что для вас значат книги? И какой формат ближе: бумажный или электронный?
– В детстве они были недоступны, их было мало, значит, роскошь. Но при этом я могу оставлять в книге пометы, потому что это вещь, служащая человеку, а не наоборот. Ведь «суббота была сотворена для человека, а не человек для субботы». Любви к книгам много, но расстаться с ними готова, если знаю, что найду на новом месте такую же за пять минут. Могу сдать в макулатуру, но предпочту раздать. «Песнь о Роланде» у меня есть, но я отношусь к книгам детства без сентиментальности – сам текст гораздо важнее. Легко читаю в электронном формате, но стихи и сложную научную литературу со сносками предпочитаю на бумаге. Много лет таскаю с собой «Сказки сельвы» Орасио Кироги в советском издании (чтобы помнить, что они мне не приснились), а ещё маленький томик Пушкина (я родилась 6 июня), которого с раннего детства знаю и люблю.
 Елена Нещерет. Фото: из личного архива
Елена Нещерет. Фото: из личного архива

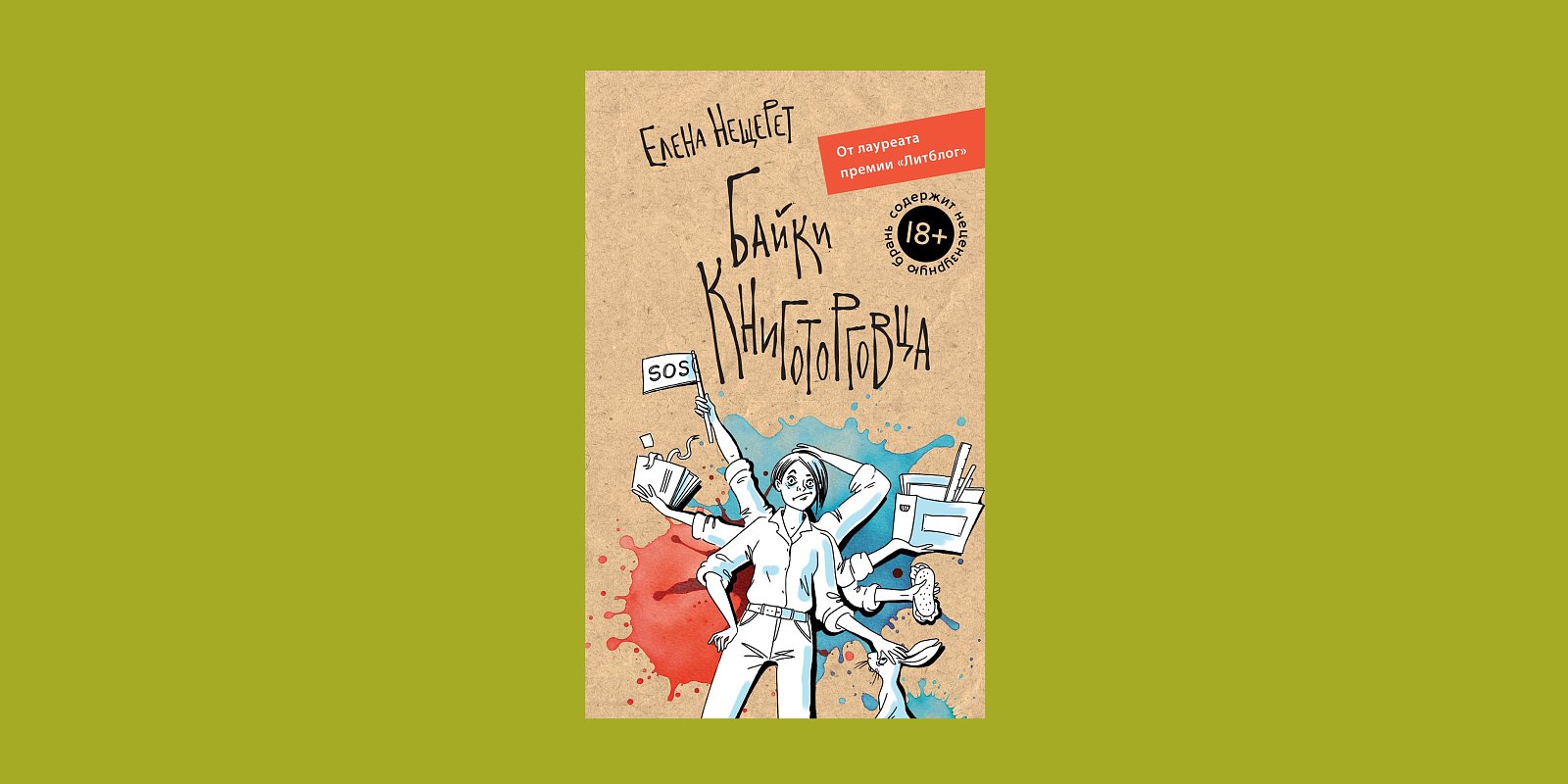
 Фото: Новосильцев Артур / Агентство «Москва»
Фото: Новосильцев Артур / Агентство «Москва» Фото: Кузьмичёнок Василий / Агентство «Москва»
Фото: Кузьмичёнок Василий / Агентство «Москва»