Окончание. Начало здесь
Нет никакой массы, или История философии как общение философов
Почему мы читаем какого-то автора прошлого? Вопрос, которым студенты иногда задаются в довольно плоском ключе: а зачем нам читать вот этого автора? Такая постановка меня даже немножко обижает. Григорий Борисович Гутнер помогал увидеть в каждой точке философской мысли, как в фокусе, всю историю философии или очень большую её часть. Почему мы говорим о Лейбнице или о Спинозе? Он показывал, с каким проблемным полем они столкнулись, что было взято у предшествующей философии, что, может быть, было не увидено, ведь что-то увидеть – это всегда значит и чего-то не увидеть, – и что было оставлено в наследие нам. Именно такой подход – «начните с проблемы» – помогает увидеть, что никто не начинает с нуля, что философия – это не просто «кто-то родился и почему-то сказал вот это». Есть некоторое видение вещей на тот момент.
Есть какие-то проблемы, и их решение всегда имеет свою цену, иногда очень высокую – это возникновение новых проблем. Классический пример – Декарт, который хотел создать прочный фундамент познания. Создал, но цена – его безумный картезианский дуализм (различение «протяженного» и «мыслящего», породившее проблему их взаимодействия. – «Стол»), который остался в наследие всем остальным, с которым пришлось что-то решать, искать пробелы в аргументации и возможность какого-то другого подхода.
 Фрагмент фрески Рафаэля Санти (Платон в центре слева). Фото: Музеи Ватикана
Фрагмент фрески Рафаэля Санти (Платон в центре слева). Фото: Музеи ВатиканаЭто обратная сторона метода Григория Борисовича, о которой он и сам не раз говорил, обращаясь к конкретным философским текстам. Предлагается гипотеза, из неё делаются всевозможные выводы, и если они оказываются неприемлемыми – приходится пересмотреть всю аргументацию и дойти до предпосылок, до каких-то начал, до чего-то, принятого за очевидность, но которая как раз не очевидна, поскольку у неё есть альтернативы.
История философии предстаёт, таким образом, как сложное, неоднородное и не однонаправленное, но всё же единое движение проблемных полей. Говоря словами Бахтина, это «большой диалог» мыслителей. Иногда он оказывается неудачным, в нём есть помехи, какое-то нежелание слышать друг друга; бывает, как в опере, поются параллельные арии. Но именно в этом и состоит наша задача – восстановить недослышанное и плохо услышанное и представить историю философии как историю общения мыслителей, поле их разговора друг с другом. И Григорий Борисович именно так её представлял. Самое интересное, что он так представлял её студентам. Может показаться, что это очень сложно, но он умел это показать, и они это понимали, это слышно в записях лекций.
На самом деле наоборот: без этого диалога, без этого контекста понять ничего невозможно. Допустим, преподавая физику, людям говорят, что есть масса. Но что значит, что она есть? Кому-то, наверное, кажется, что так проще объяснить предмет – как набор каких-то данностей, но именно так выходит совсем непонятно. Григорий Борисович показывал, для чего это понятие, почему оно было введено. Или с чего вдруг Дарвин стал так смотреть на проблему происхождения видов. Была какая-то задача – вот почему «начнём с проблемы». Часто слышишь, что детям это непонятно, и студентам тоже – они тоже дети, им тоже будет непонятно. На самом деле им как раз так непонятно, а когда нормально рассказываешь, им понятней. Более того, иначе всё превращается в какие-то утверждения, которые нужно просто учить наизусть, не понимая их. Но всем известно, что это уже не знание, а какая-то имитация. Так что это совершенно правильный метод, но в школе он никогда не применяется – не знаю, как сейчас, но в моё время точно. Вместо этого нам дают какую-то данность. И от этого, кстати, Григорий Борисович в некоторых своих работах протягивал ниточку к моей любимой теме идеологий, говоря, что эта «готовая данность» – как раз то, что идеологии с благодарностью принимают: якобы какие-то научные утверждения – это и есть наша окончательная картина мира. Но в науке они так не работают и не могут работать. Нет никакой массы. Это понятие введено для чего-то как возможное решение какой-то проблемы.
Нам придётся читать ещё и вашу книгу
Каково положение современного философа, какова наша роль в этом большом диалоге? Григорий Борисович очень хорошо определил это в своей, с моей точки зрения, программной статье «Заметки о современной философии, или Может ли философия стать наконец наукой». Этой статьёй открывается его сборник, который мы издали пару лет назад в издательстве СФИ, и в ней речь заходит о том, чем же должна заниматься современная философия. Но начинается статья с того, что Григорий Борисович сетует на проблему, которая нерешаема на данный момент и которую философия разделяет со всеми науками, – это необозримость материала. Обязательно нужно, говорит он, учесть мнение всех коллег по вопросу, которым ты занимаешься. Но ясно, что это невозможно. Помните, как Сергей Сергеевич Аверинцев говорил, что каждую секунду где-то в мире ставится точка в книге или статье, написанной ровно на вашу тему. Этого учесть не может никто. Григорий Борисович говорит, что изобретать велосипед учёному не след, а не сделать это уже практически невозможно.
 Сергей Сергеевич Аверинцев. Фото: архив ПСМБ
Сергей Сергеевич Аверинцев. Фото: архив ПСМБЭта проблема, в общем, неразрешима. Философия, повторяю, разделяет её с любой наукой – с математикой, с физикой. И это фактически означает, говорит Григорий Борисович, невозможность сказать своё слово в науке. Проблема не только в том, что невольно изобретается велосипед, а в том, что никому не интересна ваша точка зрения. Если вы напишете какую-то систематизацию, обобщающую работу, в которой изложите, какие есть позиции по данному вопросу, то есть сократите это количество материала – коллеги скажут вам спасибо, фонды профинансируют ваш проект, и все будут только счастливы. А если вы скажете: «Нет, я хочу сказать своё слово по поводу той или иной проблемы», – вам ответят: «Конечно, это хорошо, но вы просто прибавите к нашим проблемам ещё одну – что нам придётся читать ещё и вашу книгу».
Это очень серьёзная проблема в математике, с которой Григорий Борисович был знаком не понаслышке: он говорил о том, что фактически доказательства в математике сегодня невозможны. Почему? Существуют доказательства каких-то теорем, которые никто не может проверить, потому что они настолько сложны, что нужно, чтобы целый институт целый год занимался их проверкой. Кто может это профинансировать? Доказательство уже есть. Какой-то институт занимался этой проблемой не год, а может, несколько десятилетий и решил её – утверждает, что решил. Но чтобы проверить это утверждение, нужно, чтобы ещё парочка институтов позанималась пару лет этой же проблемой. Это никто не будет финансировать, а следовательно, некоторые вещи остаются недоказанными, хотя вроде бы они доказаны. Эта ситуация чудовищная просто в силу усложнения современной математики и физики. Проверить эксперимент значит ещё раз его профинансировать – это практически невозможно. И это общая проблема.
Как реагирует на неё философия? С одной стороны, она тоже становится систематизацией, обобщением уже сказанного. С другой стороны, она становится в позицию некоторой вспомогательной дисциплины. То, что философия некогда была признана служанкой богословия, не уникальный случай. Сегодня она служанка чего-то другого – физики, математики, социологии. Особенно социологии. Почему она становится в эту позицию? Потому что она отказывается от собственного поля – непонятно, чем ей, собственно, заниматься, – и обслуживает нужды той или иной науки, опять же, систематизируя, проговаривая какие-то предпосылки, и в этой роли более-менее находит свою применимость, доказывает свою полезность и право на финансирование.
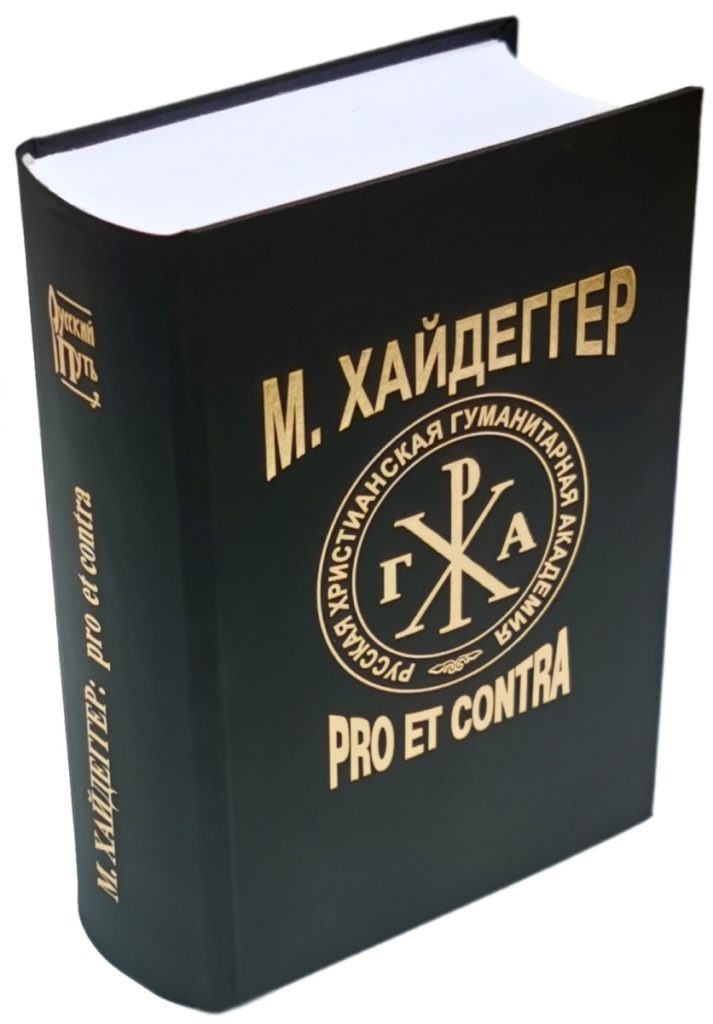 Антология Мартина Хайдеггера «Pro et contra». Фото: издательство РХГА
Антология Мартина Хайдеггера «Pro et contra». Фото: издательство РХГАНо в этой статье Григорий Борисович говорит даже не о финансировании – всё-таки философа профинансировать гораздо легче, чем математика или физика. Главная проблема в другом. Когда-то она уже была высказана как особая тема Хайдеггером. В своей статье «Феноменология и теология» он противопоставил позитивные науки, отнеся к ним и богословие, – феноменологии, или вообще философии. Напомню, в чём разница. Все науки – позитивные, потому что они имеют дело с уже как-то понятым сущим. Всякой науке предпослано некоторое предпонимание её предмета, и это предпонимание всегда донаучное. Математик знает, что такое число и точка; физик знает, что такое физическое тело; богослов знает, что мы понимаем под словом «Бог». Эти темы или откровения не проговариваются, потому что какое-то предпонимание всегда нужно, нельзя всё ставить под сомнение. Это и есть те самые неявные предпосылки, за которые Платон отказал всем наукам в научном статусе, кроме диалектики – собственно философии – как искусства опровержения. Интересно, что единственная наука оказалась у него искусством. Почему? Потому что философия должна сам научный метод в его основаниях подвергнуть сомнению. Хайдеггер называет это негативной наукой, противопоставляя её всем позитивным. У Платона это искусство опровержения. Григорий Борисович говорит о ненаучной философии.
Чем она занимается? У неё есть своё дело – она не должна заниматься только делами других наук. Кстати, пафос ненаучной философии свойственен именно русской мысли, тогда как, условно говоря, западная мысль озабочена как раз научностью философии и её метода. Какое же это собственное дело? Григорий Борисович считал, что философия ни в коем случае не должна его упускать из виду. Это дело есть, и оно очень важное, оно отлично от других дисциплин. Если бы он не считал его важным, он, наверное, продолжал бы заниматься математикой. Это дело – исследование тех самых неявных предпосылок, на которых построены не только разные науки, но и всякие человеческие практики – всё, что мы делаем. Пересмотр оснований, начал, их анализ, поиск альтернатив – это и есть дело философии.
Я всегда говорю то же своим студентам: вы от меня не узнаете, каков мир на самом деле. Что, может быть, вы узнаете – это какие у нас есть разные возможности для понимания и для видения мира. Задача философии – не определить правильный взгляд на мир раз и навсегда, но расширить наши возможности понимания.
Думать что-то, неугодное кому-то
Григорий Борисович пользовался этой метафорой – дойти до последних оснований, а я больше люблю метафору границ. Философия – это некоторый эксперимент на границе мыслимого, который раздвигает эти границы. Если мы на границе, то мы уже видим, что по ту сторону, и можем передвинуть эту границу. Но, в сущности, это одно и то же. В тот момент, когда мы видим какие-то основания и находим, что они не очевидны, что возможны другие, – и раздвигается граница, расширяется область мыслимого.
Можно сказать, что этот взгляд на задачи философии представляет собой средний путь между отечественной традицией, отвергающей «научный» позитивный пафос философии во имя некоего непосредственного усмотрения истины, отказа от критицизма, – и западным путём, на котором философия мыслится как позитивная наука, прогрессивная и ставящая себя в положение обслуживающей дисциплины. Путь вспомогательной критической дисциплины – не собственное дело философии. Истинная философская задача – это третья возможность: если хотите, синтез первого и второго пути, но и их очищение от всего, что не есть философия. Да, говорит Григорий Борисович, философия не должна быть наукой, но не потому, что нам не нужен философский анализ, не нужна аргументация, не нужна критическая позиция, не нужны доказательства, а совсем по другой причине: потому что все другие науки не видят и даже не пытаются увидеть собственные основания, неявные предпосылки человеческой жизни вообще, начала. Но их прояснение необходимо. Оно особенно необходимо, когда та или иная дисциплина заходит в тупик. Но это, опять же, вспомогательный момент. Философия нужна не только для этого. Прояснение оснований той или иной науки или практики возможно только в случае прояснения оснований мысли вообще, а значит, и расширения её возможностей. Именно это расширение области мыслимого и есть задача философии, потому она, как говорит Григорий Борисович в конце этой статьи, не может стать позитивной наукой. Я цитирую: «…скорее она может просто исчезнуть, если человек потеряет интерес к собственным основаниям. Но это, скажу я, фактически будет означать конец человека как свободно мыслящего существа».
Вся философская и преподавательская деятельность Григория Борисовича Гутнера была направлена то, чтобы противостоять такому развитию вещей. Мыслить свободно – не значит думать что угодно и даже не значит думать что-то, неугодное кому-то. В одной дискуссии по поводу тоталитаризма, проходившей в СФИ, Григорий Борисович дал замечательное определение того, что значит не мыслить. Это место я даже взяла эпиграфом к своей собственной книге. Речь зашла о том, что в эпоху тоталитаризма возникает тип массового человека, человека массы, и что он как раз существо, которое не мыслит. И Григорий Борисович говорит: «А что значит не мыслить? Не мыслить – это не значит сидеть и молчать. Не мыслить – значит производить стереотипы, которые потом выдаются за последнее слово истины. Именно этим занимается современный мир как на Западе, так и на Востоке». Именно этой стихии немысли противостоят философские труды и лекции Григория Борисовича Гутнера.


