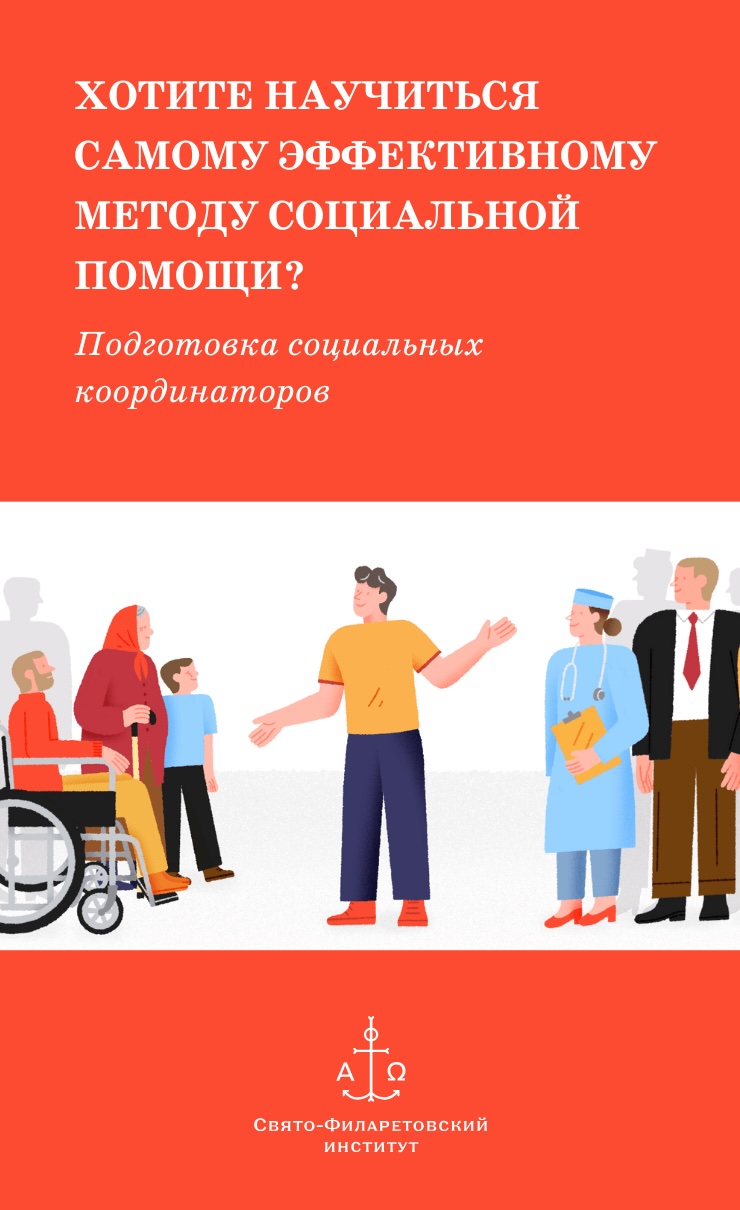Роман Льва Толстого «Война и мир» занимает особое место в русском литературном каноне. Это не просто классический эпический текст, это книга, которая «держит» национальную историческую память и даёт богатый материал для размышлений в переломные для страны моменты. Корреспондент «Стола» поговорила с кандидатом философских наук, старшим научным сотрудником Государственного музея Л.Н. Толстого, автором книги «”Война и мир”: от замысла к мифу» Ильёй Бендерским о том, как читать этот текст сегодня и находить в нём ответы на самые важные вопросы.
 Илья Бендерский. Фото: tolstoymuseum.ru
Илья Бендерский. Фото: tolstoymuseum.ru– Илья, расскажите, пожалуйста, о самом тексте романа. Ведь это не первое и не последнее издание. Почему за канонический был выбран именно этот вариант? И стоит ли искать и читать другие, чтобы больше понять про этот роман?
– Нельзя сказать, что у нас есть разные варианты, которые кардинально бы отличались друг от друга. Толстой издал текст романа под заголовком «Война и мир» в 1868-–1869 годах. Разбивка тогда была на шесть томов, а не на четыре, как мы привыкли, но, по сути, это то, что мы сейчас читаем. Дальше уже нюансы. Принципиальны те вещи, что влияют на восприятие книги в целом, а это два момента: – французский язык, намеренно введённый в русский художественный текст, и философские отступления. Обширные отступления создают эффект жанровой неоднородности. Иногда целые главы написаны так, что мы будто бы читаем философский трактат, а не роман, но это было сделано вполне намеренно. Толстой взламывал некоторую рутину читательских ожиданий.
При этом ошибочно думать, что в 60-е годы XIX столетия средний российский читатель свободно читал по-французски. Роман был адресован гораздо более широкой читательской аудитории, чем тот аристократический круг, к которому принадлежал сам граф Толстой и для которого владение французским языком было нормой. Столь обильное двуязычие книги указывало на социальную дистанцию между автором-аристократом и широкими читательскими кругами. Многие это могли воспринять как некоторую барскую заносчивость в условиях пореформенной России. В 1873 году Лев Николаевич как бы сделал шаг навстречу читателю, выбросив французский язык и философские отступления. Роман в таком сокращённом виде обрёл новую структуру – четыре тома (вместо шести). А потом взгляды Толстого на жизнь изменились радикально, он стал относиться к литературе совсем иначе. С новых религиозно-коммунистических, даже анархистских позиций он осуждал своё художественное творчество, в том числе «Войну и мир». Он бросил вызов вообще всей современной ему культуре и самому себе раннему. Но Софья Андреевна, его жена, переиздавая роман в 1880-е годы (то есть почти через двадцать лет после его написания), и вернула философские отступления, французский язык. Чем она руководствовалась, сложно сказать, но, я думаю, она просто с большим трепетом относилась к труду своего мужа, нежели он сам.
– Как раз хотела спросить, насколько к роману приложила руку Софья Андреевна? Есть версии, что она чуть ли не полноценный соавтор и даже что-то меняла на свой вкус.
– Тут нужно понимать, как была организована работа над романом. Это был действительно колоссальный труд. Ясная Поляна в какой-то момент превратилась в фабрику, в центре которой был мозг Льва Толстого, продуцирующий варианты текста один за другим. Всё это было на листах бумаги, исписанных со всех сторон, с пометками на полях, с перечёркиваниями. И Софья Андреевна выполняла очень важную функцию – она расшифровывала эти черновики, переписывала их набело. Естественно, всё смысловое содержание, вся художественная работа проводилась мужем. Но иногда были определённые полномочия, которые он сам делегировал своим помощникам.
– Какого рода?
– Например, издатель и редактор Пётр Бартенев сыграл никак не меньшую роль в формировании окончательного текста романа, чем жена писателя. Толстой прямо ему говорил: «Вычёркивайте то, что, как вы считаете, не пройдёт цензуру». Плюс у Толстого, как у человека, который не заканчивал никаких гимназий, а получил домашнее образование, были своеобразные отношения с русской орфографией. Например, он пишет многие слова так, как они слышатся (скажем, «мущины» через «щ»). А какие-то слова пишет и так, и эдак. Нет единой орфографии в целом ряде случаев. Я не говорю, что он постоянно делал ошибки, но его письменная речь была ближе к речи устной, скажем так. Может быть, это только помогло ему стать великим писателем, помогло сформировать свой стиль. Но для издания нужно было причесать, унифицировать текст. Софья Андреевна писала гораздо чище и грамотней с точки зрения орфографии.
Были случаи, когда Толстой просил жену: «Одень мою героиню». Какое на ней платье должно быть и так далее. Также Софья Андреевна фактически была первым читателем всего того, что пишет муж. И, конечно, она выражала своё мнение по поводу прочитанного. Толстой подчас прислушивался. Когда мы говорим об участии другого в тексте, важно не то, что человек дописывает что-то или придумывает, а то, что человек находится с автором в диалоге, в общении. Лев Николаевич создавал свои художественные миры не исключительно в своей голове, а в процессе непрерывного общения с большим кругом людей, которых он знал вживую или через книги. Те, кого он знал вживую (близкие, родственники, друзья, друзья друзей), узнавали себя в образах романа. Толстой обладал исключительным даром наблюдения за другими людьми и специфического сопереживания другим. Как, например, отставному поручику артиллерии понять, что испытывает московская девушка, которая первый раз идёт на бал?
 Лев Толстой и Софья Толстая в кабинете. Фото: tolstoymuseum.ru
Лев Толстой и Софья Толстая в кабинете. Фото: tolstoymuseum.ru– И, кстати, писать роман он начал сразу после женитьбы.
– Да. И это неслучайно, конечно. Свои лучшие вещи именно в романной форме он пишет в этот период – период более или менее спокойной семейной жизни. В 60–70-е годы Софья Андреевна, хотя её отношения с мужем никогда не были ровными, была всё-таки самым близким для Толстого человеком, а не просто женой, которая механическую работу выполняла. Они буквально «жили вместе», то есть жили одними мыслями, одними событиями, говорили на одном, зачастую только им одним понятном языке. Их совместный опыт перетекал в художественные тексты, а художественные тексты, в свою очередь, становились их совместным жизненным опытом. Я бы именно так ответил на вопрос о «соавторстве» Софьи Андреевны. Она была соавтором его жизни и, как следствие, его романов.
– Как читали этот роман современники Толстого? Что в нём видели? Насколько то восприятие текста отличается от восприятия современного человека?
– Я бы сразу границу прочертил. Одно дело – люди 1860-х – начала 1870-х, а другое дело – люди 1880-х годов. Казалось бы, так близко, но в 1880-е годы этот текст русскоязычным читателем уже воспринимался почти как классический. А вот когда читаешь первые отзывы (начало выходило в журнале «Русский вестник» под названием «1805 год», и там действительно был немного другой текст), то, прежде всего, сталкиваешься с некоторым недоумением. Читатели не совсем понимали, что перед ними. Семейная хроника? Беллетризованные воспоминания современников? Обработанные документы? Это было настолько не похоже на те романы, которые были в русской литературе, что многие не знали, как подобраться к книге.
И второй момент – это необыкновенная живость толстовского повествования. Он создаёт героев и описывает вымышленную жизнь так, как мы не можем себе представить и описать свою невымышленную. Именно у Толстого возникает ощущение захватывающей всё объективности рассказа. Как будто он не задаётся вопросом, для чего я это пишу, а передаёт «как оно есть». Конечно, ни один писатель не передаёт жизнь, «как она есть», искусство строится на условности, это всегда какой-то приём, иллюзия, но рядом с толстовскими персонажами все остальные кажутся вымышленными. Потом уже в ХХ веке будут говорить о том, как у Толстого всё это встроено в философскую систему.
– А как было в реальности?
– Литература была чем-то таким, что давало программу жизни. Некоторые книги и сейчас так на нас влияют. Но сейчас это, скорее, будут книги по психологии, философские тексты, нон-фикшн. А в 1860-е годы в России своей значимой философской традиции ещё не было. И в этом смысле люди переживали книги гораздо более страстно. Они не видели границы между вымышленным миром и настоящим так, как видим мы. Именно в ту эпоху и были написаны все главные русские романы Толстого, Достоевского, Тургенева, Салтыкова-Щедрина.
– С какими сложностями, как правило, сталкиваются те, кто начинает читать «Войну и мир» сейчас? Кроме французского языка и философских вставок.
– Первое и самое очевидное то, что это совершенно далёкий мир и надо ещё «въехать», какое отношение он имеет ко всем нам. То, что я сейчас скажу, – ересь, нельзя так с точки зрения преподавателя, но чрезвычайно свободолюбивая книга у нас давно вбита в канон и является обязательным чтением. У многих это вызывает естественную реакцию отторжения. Вряд ли Лев Николаевич был бы рад тому факту, что роман «Война и мир» – это обязательное чтение школьника. Книга писалась для людей постарше, которые будут её читать свободно. Но это, в принципе, касается любого канонического произведения. Того же «Евгения Онегина». И это, конечно, вечная проблема учителя словесности: сделать обязательное, каноническое произведение школьной программы предметом любви и свободного выбора ученика.
Другой момент… – «Война и мир», на мой взгляд, – это главная книга о русской истории. Это авторский, очень сложный ответ на мучавшие Толстого вопросы о коллективном самосознании. Время, в которое писался роман, было страшно динамичным, нам такое и не снилось. Мы можем переживать какие-то исторические катастрофы, но у нас смыслы не меняются так быстро, как тогда. Духовная модернизация разгонялась с огромной скоростью в 1860-е годы. И Толстой ставит перед собой вопросы. Что такое движение истории? Как этот огромный мир, несущийся куда-то, связан с моей конкретной индивидуальной судьбой? Что связывает людей друг с другом в масштабе семьи, деревни, города, страны, всего мира? И на эти вопросы он отвечает. А нам трудно на них ответить. Потому что мы сами переживаем сегодня кризис, но осознать его нам трудно. И в 2022 году, наверное, мы как-то иначе должны перечитать роман, не так, как мы его раньше читали.
 Иллюстрация Леонида Пастернака к роману "Война и Мир". Фото: общественное достояние
Иллюстрация Леонида Пастернака к роману "Война и Мир". Фото: общественное достояние– Почему люди возвращаются к этому роману в переломные исторические моменты?
– Есть события, которые являются парадигмальными, важнейшими для той или иной общности. И есть книги, которые держат национальную память. Например, для древних греков это была Троянская война – мифологическая, про которую мы почти ничего не знаем. Но они помнили себя как те, кто брал Трою. И, заметьте, это была память не о героической победе и не о том, какие мы молодцы, взяли Трою и можем повторить. Это была память о жестокости войны и достоинстве человека, о том, что люди – и греки, и троянцы – одинаково подчинены общему для всех року. И не случайно читатели Гомера, именно те люди, которые его наизусть учили, изобрели науку и философию. У современных народов тоже всегда есть главное конституирующее общность историческое событие.
Во Франции до конца XIX века были люди, которые воспринимали французскую революцию как катастрофу, как жуткий перелом французской истории. Но это ушло, и ушло не потому, что всех, кто так думал, перевешали, перестреляли и ввели какие-то законы, запрещающие говорить плохо о Французской революции, а просто в связи с тем, что они, французы, по мере смены поколений осознали событие прошлого в самой жизненной практике настоящего, осознали, что институты, которые родились тогда, работают и сейчас, что это их общие гражданские ценности. И обязательно есть целый корпус художественных текстов, которые транслируют эту историческую память.
– Какие парадигмальные сдвиги нашей истории фиксировала русская литература?
– В России с начала эпохи модернизации и вестернизации это были преобразования Петра I. Потом таким конституирующим память событием стала война 1812 года. Мы победители Наполеона, мы пришли в Европу и взяли Париж. Но, с другой стороны, живём-то мы совсем не так, как Европа, и что нам с этим делать? И Толстой писал свой текст в тот момент, когда память о войне 1812 года переставала быть социальной, личной и становилась культурной памятью. Официоз тоже перестал себя оправдывать. Нужны были новые культурные формы для дальнейшего бытования этой памяти, формы, связывавшие далёкое, историческое и личное, даже интимное.
Потом писатели пережили революцию и гражданскую войну, Великую Отечественную войну. Главная книга о гражданской войне «Тихий Дон», очевидно, писалась в диалоге с Толстым, отчасти в споре с ним, как и роман Гроссмана («Жизнь и судьба» – прим. ред.).
 Обложка книги Ильи Бендерского «”Война и мир”: от замысла к мифу». Фото: Издательство Rosebud Publishing
Обложка книги Ильи Бендерского «”Война и мир”: от замысла к мифу». Фото: Издательство Rosebud Publishing– В чём был уникальный вклад Толстого?
– У Толстого это получилось в более чистой форме. Он первый открыл романно-эпическую форму сохранения памяти о таком стержневом событии. Когда происходят события, которые полностью меняют нас, неизбежно перезагружается вся картина памяти. В 1917 году рухнуло общество, которое хранило память о победе над Наполеоном. Люди жили в переломное время, а прошлое теряло значение и меняло значение. Кстати, сам Толстой пережил разрыв с конкретным содержанием этой исторической памяти (имперской памяти, если угодно) значительно раньше своих читателей, и с ним это произошло значительно радикальней, чем с его читателями. Именно поэтому с 1880-х годов его собственный шедевр перестал его интересовать, а вот в сознании публики этот крах исторического содержания случился только в 1917 году. Но это только содержание, а вот сама форма продолжала существовать. Новое содержание – революция и гражданская война – в литературе вновь осмыслялось в этой романно-эпической, открытой когда-то Толстым форме. То же самое произошло во время Великой Отечественной войны. Мы стали носителями памяти победы над Гитлером. Есть такие кардинальные события, которые нас меняют, и когда они происходят, мы заново перечитываем важнейшие тексты. И роман «Война и мир» – как раз такой текст.
– Были какие-то эпохальные возвращения этого романа к читателю?
– В эпоху Второй мировой войны толстовский текст вернулся. Потому что снова встал вопрос: враг стоит у нашей столицы, выживем мы или нет? И весь официальный язык не работал. У нас Красная армия «всех сильней», а немцы стоят под Москвой. Как это понять? У нас передовой строй, а мы терпим поражения и миллионами попадаем в плен. Так будем мы существовать как народ или нет? И люди открывали «Войну и мир» и находили там ответ на этот вопрос, как об этом очень точно в своё время сказал Константин Симонов. Толстовский текст был заново перечитан в каком-то своём историческом ядре: мрак и зло военной агрессии могут быть побеждены. И теперь мы не можем не проводить параллели между Великой Отечественной войной и войной 1812 года.
– Но в перестройку этот роман почему-то не был заново перечитан и переосмыслен?
– Дело не романе, дело в нас. Мы сами не осмыслили, кто мы есть. В 1991 году наш мир полностью преобразился. Это как угодно можно называть – перерождение, катастрофа, просто кардинальное событие. У нас 1991 год и 1993 год произошли по факту, а в мысли, в опыте они не состоялись. Мы не видим открытой серьёзной дискуссии о том, что это было, не видим, чтобы это событие как бы «заслонило», заполнило собой все клеточки социальной, а затем уж культурной памяти. Что такое эта Конституция 1993 года? Там написаны какие-то слова, но что они значат для нас? У нас есть свобода слова, демократическое социальное правовое государство? Но что это? К чему это нас обязывает? Являемся мы носителями этих прав или нет? Есть ли у нас республиканский строй вообще? Или мы всё ещё империя – как в 1812 году? Вместо простых и однозначных ответов на базовые вопросы у нас лишь туманные мечты, воздушные замки и взаимная жесточайшая идеологическая рознь на деле по поводу самых простых вещей, которые, казалось бы, должны объединять историческую общность, а не раскалывать её. Случившееся в 1991–1993 годах как бы случилось внешне, а внутренним содержанием не стало. И отсюда я вижу наши проблемы. Я бы сказал, что сейчас мы структурно ослеплены по отношению к прошлому. То есть сейчас буквально нет того коллективного общего места в настоящем, нет общего переживания настоящего, из которого мы могли бы как-то по-своему читать великий текст о прошлом.
– Тогда получается, что после Великой Отечественной войны, хоть мы роман и перечитали, но тоже не переосмыслили?
– Мы не перечитали, я думаю. Сейчас мы смотрим на него так, как будто живём в 1960-х годах. Мы всё время это сравниваем с Великой Отечественной войной и так далее, но сами-то мы уже изменились. Когда люди общаются с художественным текстом, нет такого понятия, как правильное прочтение. Оно может быть адекватно самому себе. Для того чтобы понимать роман «Война и мир» адекватно, нужно понимать свой сегодняшний день, а это то, с чем у нас большая беда.
В советской школе книгу Толстого превратили в национальную мифологию, которая подпиралась аналогиями с победой над Гитлером. Но ведь книга «Война и мир» создавалась совсем с другими задачами – чтобы освободиться от истории, от ощущения своей беспомощности перед насилием, перед бездушным государством и его военной машиной, перед вызовом времени. Там с героями именно это происходит. Они попадают в водоворот войны и мира (на который смотрят разными глазами), но остаются людьми. Толстого интересует, как они сохраняли человечность, находясь в водовороте исторических событий.
 Фото: АГН "Москва"
Фото: АГН "Москва"– Один из вопросов, который задаётся в романе: зачем мужчины придумывают войну? А как вы себе отвечаете на этот вопрос?
– От скуки. От неумения жить. От страха перед жизнью человек начинает создавать кумиров, обманывать себя. Толстой развёрнуто показывает, как этот личный самообман связан с коллективным самообманом государственной власти, с мнимым могуществом «вождей», так называемых «великих людей».
– На Украине роман убирают из школьной программы. И нужен ли сейчас украинцам этот роман так же, как и нам, чтобы отрефлексировать время и историю своей страны?
– Мне кажется, что им в данный момент этот роман нужен гораздо больше, чем нам. Они как раз переживают именно такое кардинальное событие своей истории, о котором я говорил выше. Они могли бы сейчас перечитать Толстого с большой для себя пользой. И я уверен, что многие так и делают. Если мы хотим когда-нибудь перестать друг друга ненавидеть и из войны перейти в мир, то война с культурой и война с языком – дело бесполезное. И даже этот массовый психоз отмены всего русского, то есть языка и литературы, для умного человека как раз лучший повод перечитать сам текст. Но в нашей нынешней ситуации не самое подходящее время что-либо советовать украинскому обществу.
Лично мне кажется, что мы сейчас переживаем вообще тотальный крах русской культуры. По сути дела, свобода обращения с русским словом сейчас под перекрёстным огнём и в России, и на Украине, и вообще где угодно. В ближайшее время русская культура будет в той или иной степени в подполье практически везде. Социальная практика отмены в иноязычной среде, правовое притеснение за границей или прямая и беспощадная репрессия у нас дома – это и есть своего рода тотальный плен, в который мы все угодили.
– Но Толстой уже не может постоять за себя и свой роман. Что нам остаётся при таком раскладе?
– Будем продолжать читать. Сохранять эти книги, обсуждать их дома, на общественных площадках в доступных формах, на частных площадках. Я в данном случае говорю и про Украину, и про Россию, и про любую страну, где читают Толстого. Никто не может нам запретить взять роман «Война и мир», открыть его и прочитать. Я думаю, в такой негосударственной, нешкольной форме этот роман останется с любым образованным человеком. Великие книги просто так не уходят. В этом смысле, я думаю, Лев Николаевич победит, а наполеоны, как им и положено, проиграют.
– Я сейчас перечитываю роман и постоянно ловлю себя на том, что персонажи понимают какие-то важные для себя вещи и прощают друг друга слишком поздно. Если бы это осознание случилось хоть немного раньше, жизнь сложилась бы по-другому. И от этого накатывает какая-то ужасная тоска. Может быть, я его как-то неправильно читаю и не так расставляю акценты? Может ли этот роман быть средством от тоски, а не наоборот?
– Когда вы до финала дочитаете, то там тоске особо нет места. Мне кажется, как раз в плане жизнелюбия, в плане того, что жизнь побеждает, это одна из самых оптимистичных книг. В русской литературе так точно. В конце концов, роман «Война и мир» о победителях, о людях, за которыми будущее, о тех, кто умеет любить друг друга. По-моему, это и есть главное средство от тоски.