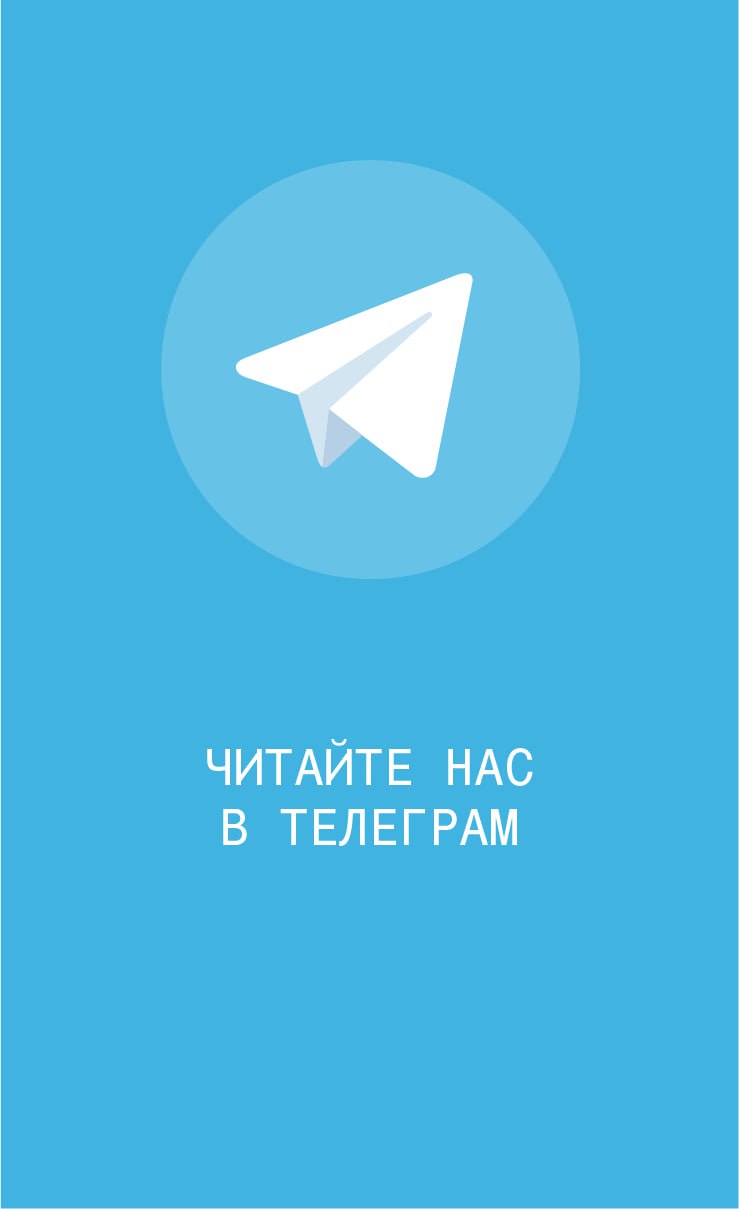Строго говоря, «русский стиль» – это ответвление внутри стиля модерн. Парадокс в том, что модерн – значит «современный»: современные формы, стремление к некой чистоте образа без всякой стилизации. И при этом внутри модерна на полных правах живёт мощнейшее направление историзма, которое позволяет использовать в архитектуре, живописи, иконописи формы предыдущих эпох, причём в интересных сочетаниях. Иногда в виде очевидной эклектики, когда одновременно сочетаются элементы различных древних эпох, а иногда в виде эстетизации древности, в стремлении к более или менее чистым формам в рамках той или иной ее эпохи.

Непохожие близнецы
Кстати, русский стиль в его начале нельзя отделить от византийского. Скажем, в декоре храма Христа Спасителя использованы так называемые русско-византийские формы, по сравнению с Исаакиевским собором это бросается в глаза. Но на самом деле эти два собора – близнецы-братья. Структура обоих очень сходна: огромный, мощный средний купол и четыре хрупких колоколенки, выходящих из основного объёма – это даже не главы, которые давали бы от верхней части храма ощущение пятиглавия, а просто украшающие его «палочки». Первая, самая поверхностная ассоциация – Святая София Константинопольская с четырьмя мусульманскими минаретами, которые были построены через тысячу лет после основного храма, в XVI веке. Но на самом деле это ещё и адресация к западноевропейскому зодчеству эпохи Ренессанса и далее – к абсолютно уравновешенному зданию, когда четыре вертикали по его краям даются просто для симметрии, а не для того, чтобы воспроизвести наше «освященное пятиглавие», восходящее к крестово-купольному храму. Мы знаем западные храмы, выполненные в этой стилистике. Есть и синагоги такой постройки, и даже светские здания. То есть большой центральный купол и четыре маленьких вертикали по бокам – это уже интернациональная архитектурная «формула», вполне светская, а не церковная. Можно такое здание украсить русским орнаментом, кокошниками, наличниками – пожалуйста, сколько угодно, но стиль от этого не меняется.

Прерафаэлиты разбудили Иванова
В чём был смысл обращения к «русскому стилю»? Отнюдь не в одном стремлении потешить свою национальную гордость и показать, что и мы не лыком шиты. Здесь нельзя не увидеть, пусть противоречивое, испытавшее различные влияния, намерение прийти к более глубоким духовным началам, к своим христианским корням. Это стремление было не только в России. В Западной Европе ещё в первой половине XIX века возникло движение так называемых назарейцев. Это была группа протестантской молодёжи, перешедшей в католичество, чтобы иметь возможность писать живописные изображения на библейские сюжеты. Они предвосхитили интересное, хотя и во многом стилизованное художественное направление XIX века – прерафаэлитов. «Прерафаэлиты» – значит ориентированные на живописную традицию до Рафаэля: это и раннее Возрождение, которое сильно связано со средневековьем, и вообще Средневековье. Если использовать знаменитую формулу «декабристы разбудили Герцена», то прерафаэлиты «разбудили» Александра Иванова, нашего великого художника, который, создавая свою огромную картину «Явление Христа народу», уже бредил возрождением в России нового иконописного стиля. «Я живописец, призванный создать новый иконный род», – говорил он. Прерафаэлиты очень его вдохновили, и он, первым из русских художников, заинтересовался нашей древней иконой. Он понял, что в ней кроется совсем не то, что видели в его время – неразвитость стиля, условность, угрюмость, темноту и так далее.
Реставрация и революция
В «русском стиле» видна ориентация на целостность, существовавшую в Средние века. Но, как всякое движение назад, оно во многом было эстетизировано. В каком-то смысле оно было игрой, но важна тенденция: если начинали с очевидной эклектики, то в эпоху Александра III это движение постепенно переориентировалось на большую чистоту стиля, на возрождение более чистых форм. Уже не соединяли XIХ-й век с XVI-м. То есть, было стремление к древности в наилучших её проявлениях. Именно благодаря такому стремлению в начале ХХ века появилась научная реставрация икон. Древние иконы, имевшие утраты красочного слоя, уже не «поновлялись», то есть не доводились до, так сказать, «товарного вида», наоборот: реставраторы максимально открывали их изначальные формы. Это очень интересное, очень мощное культурное явление. Увы, оно было прервано Первой мировой войной – тут не особо построишь, не особо попишешь и не особо пореставрируешь. А потом уже революция его остановила, точнее – перевела из общецерковного в музейный план. И на этом возрождение церковной художественной культуры, которое предвосхищала эпоха модерна, остановилось. Модерн стремился вместить прошлое, не копируя его – это то, чего не хватает нашему времени. Поэтому внимание к эпохе модерна мне представляется очень плодотворным. Не для воспроизведения элементов стиля – это уже далекое прошлое. Нет, эпоха стилизаций (несмотря на то, что такого рода храмы продолжают воздвигаться) кончилась. Но суть модерна, в частности, значение «русского стиля» в нем, думаю, остается недопонятым – во многом из-за того, что поиски в этой области были искусственно прерваны, им не дали как следует развиться.
Если бы модерн повзрослел
Предположим, что такое развитие можно было бы продолжить: как бы оно пошло? Уже наметился переход от стилизации и эклектики – к почти копиям древности. Что могло бы родиться потом? Но это должно было бы стать делом не одних церковных архитекторов и иконописцев: подлинный стиль рождается в недрах духовной жизни, его рождает вся церковь, вера тех, кто ее составляет. Ведь всё, что мы называем словом «стиль» в собственном смысле, предполагает не совокупность различных художественных элементов, но выражение определенного мировоззрения, жизненного уклада, в тех или иных особенностях живописи, музыки, языка, архитектуры, в том числе храмовой. Поэтому, чтобы сегодня что-то живое в храмовом искусстве могло родиться, страна должна в буквальном смысле прийти в себя, а церковь – стать свободной от давящего ее наследия константиновского времени, то есть эпохи «симфонии» (букв. «созвучия») с государством. На самом же деле церкви в этом «созвучии» была отведена роль, в лучшем случае, подголоска. Большевики отделили церковь от государства, но отделили «хирургически» – отрезали, ампутировали и живые вещи. Последствия этой ампутации часто недооценивают. Русская культура, одна из немногих по-настоящему мировых культур, была рождена христианской верой, питалась ей – и вдруг она оказалась резко отделена от своих корней. Сейчас трудно понять, почему так быстро и легко порвались все связи с ними, но это факт: «распалась связь времен»…