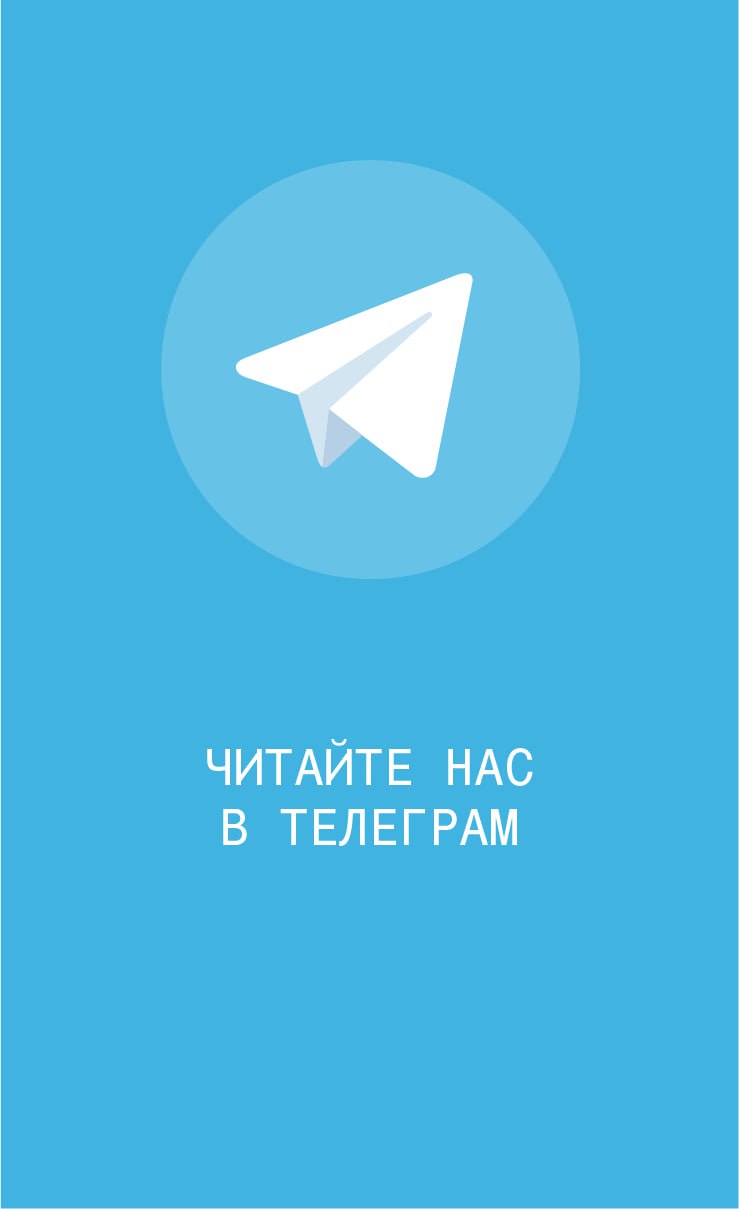В Центре изучения эго-документов «Прожито» Европейского университета в Санкт-Петербурге вышел сборник «“Пока я жива, живёшь и ты”: Женские дневники блокадного Ленинграда». Это уже третий том блокадной серии, составленной и опубликованной сотрудниками «Прожито», в который вошли дневники восьми женщин-блокадниц разных возрастов, профессий, социального статуса, а также комментарии историков к этим текстам.
Корреспондент «Стола» поговорила с составителями сборника – историками, сотрудниками Центра «Прожито» Алексеем Павловским и Анастасией Павловской – о том, как личные дневники меняют представление о трудном прошлом и о гендере как о научной категории.
 Анастасия и Алексей Павловские. Фото: Европейский университет в Санкт-Петербурге
Анастасия и Алексей Павловские. Фото: Европейский университет в Санкт-Петербурге– В первом томе вы рассматривали сам феномен блокадного дневника, во втором обращались к теме эвакуации. Теперь в центре интереса – дневники, написанные только женщинами. Насколько велик был гендерный дисбаланс в годы блокады?
Алексей: Блокадный Ленинград безусловно был «городом женщин». Но за этим возвышенным названием скрывается чудовищная статистика. До войны Ленинград был одним из самых больших мегаполисов Европы, где было 3 млн человек, а мужчин и женщин было примерно поровну. В июне 1942 года пропорции населения в Ленинграде составляли 25,6% мужчин и 74,4% женщин. Среди группы 20–29-летних приходилось девять женщин на одного мужчину. Женщины были и защитницами города, и врачами, и педагогами, и бюрократами, и главной армией труда. И, конечно, они были авторами дневников, многочисленных и очень пронзительных. Сегодня сотрудники «Прожито» могут насчитать более 650 таких дневников, что свидетельствует о невероятной интенсивности блокадного письма (это 30% от общего числа известных нам дневников за всю Великую Отечественную войну). 295 известных нам блокадных дневников написаны женщинами.
– Не является ли такой взгляд на проблему пусть и позитивной, но дискриминацией?
Алексей: Хороший вопрос, потому что наши личные ощущения как составителей двойственные. С одной стороны, мы все, вся наша современная культура, смотрим на блокаду Ленинграда женскими глазами – глазами Тани Савичевой и Ольги Берггольц, Лены Мухиной и Лидии Гинзбург. С другой стороны, мужской опыт блокады (выживания, страдания, сохранения, потери и возвращения блокадной «мужественности») очень плохо концептуализирован. Блокада и фронт разделены в общественном сознании как два разных хронотопа. Первый ассоциируется с женским, второй с мужским, но это слишком упрощённое представление. Хотя наш том посвящён именно женским дневникам, один из наших выводов заключается в том, что мужской опыт блокады остаётся «невидим». Поэтому – да, здесь позитивная дискриминация есть: блокада «от первого лица» – это зачастую женское свидетельство, его наиболее известные образцы.
– Почему историки всё чаще стали обращаться к гендеру как к значимой для научных исследований категории?
Анастасия: Эпоха сталинизма и Великой Отечественной войны, в принципе, интересна историкам и социологам как время радикального гендерного эксперимента. Политика этого времени породила множество «культурных фантазий» о правильных «мужчине» и «женщине», когда «слияние женщины и солдата» могло означать непротиворечивое сосуществование женственности и воинской доблести, а мужские модели предполагали или здорового и мужественного воина/летчика/рабочего, или изувеченного, но преодолевающего своё бессилие, возвращающего себе свою мужественность инвалида. Эти репрезентации «мужского» и «женского» любопытны, но они говорят больше о политическом воображении власти до войны, во время и после.
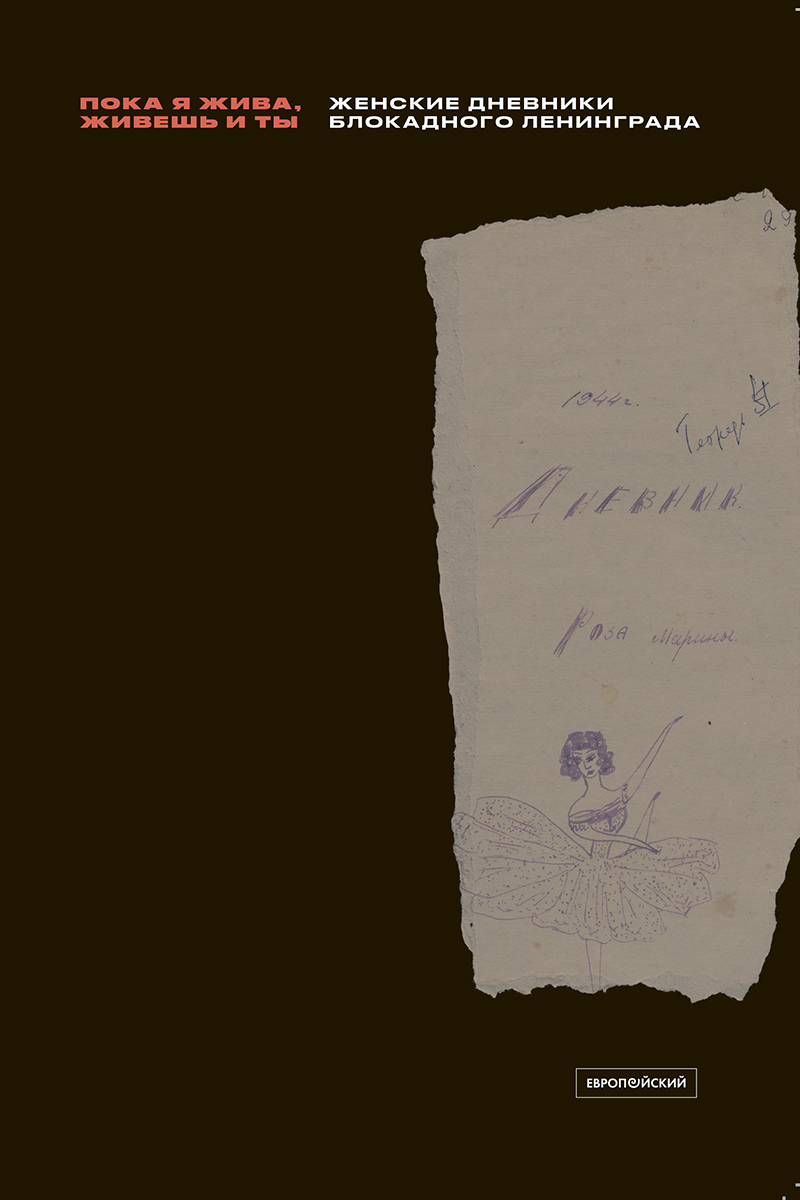 Книга «Пока я жива, живешь и ты». Фото: Европейский университет в Санкт-Петербурге
Книга «Пока я жива, живешь и ты». Фото: Европейский университет в Санкт-ПетербургеВ последние двадцать лет историки, социологи и филологи, изучающие блокаду Ленинграда, сделали очень многое для того, чтобы посмотреть на эту историю снизу, «от первого лица», не просто категоризировать ленинградок как матерей и добытчиц, строительниц оборонительных укреплений, военнослужащих, педагогов, воспитательниц, организаторов эвакуации, врачей, архивистов, библиотекарей, доноров или рожениц, но и связать женский опыт с более сложными феноменами: пропагандой, стратегиями выживания, неформальной коммуникацией, эмоциями, представлениями о справедливости, «блокадной этикой», литературными и кинообразами, культурной памятью. Гендер – это полезная категория научного анализа, поскольку позволяет нам увидеть как социальные изменения, так и изменения в том, как люди описывают своё «Я». Но мы должны заранее понимать, что это «Я» может быть очень далёким от современного.
– Разве в условиях катастрофы (голода, холода, обыденности смерти) гендерная идентичность не уходит на второй план, не становится всё более размытой? Говоря штампами, разве перед лицом смерти не все равны?
Алексей: Такая точка зрения есть, но мы с ней не согласны. Да, мы можем рассуждать о так называемом преодолении пола, о таком сильном голоде, который стирает гендерные различия между людьми: в апокалиптическом мире гуманитарной катастрофы, где от дистрофии пропадает менструация, лактация и потенция, выпадают волосы, ногти и зубы, сохранить себя как личность – это буквально сохранить себя как мужчину или женщину. Блокадные дневники – это страшный, но очень информативный для историков материал, который показывает, как люди борются за сохранение или возвращение утраченной мужественности или женственности, рефлексируют об этом. Однако мы не должны думать о том, что эта деградация телесности – синоним того, что гендерная идентичность почему-то становится размытой. Наоборот, она только заостряется.
«Гендерный взгляд», при помощи которого мы объективируем себя и друг друга, а государство объективирует население, в блокаду не исчезает. Художники и поэты продолжают описывать мужское и женское тело как аллегории героизма и дистрофии. Пропагандисты и радиоведущие обращаются не просто к людям – они объясняют, что значит быть настоящими мужчинами и женщинами. Гендерные роли оказываются в прямой созависимости со стратегиями выживания (поиск пищи, топлива, информации, дополнительных привилегий, забота друг о друге, распределение обязанностей и т.д.), которые воплощаются в обретении новых ролей и ценностей. Поэтому – нет, даже перед лицом смерти гендерная идентичность никуда не девается – и как часть внутренних представлений о самом себе, и как часть внешних образов, которые навязываются обществом, государством, армией, медициной, идеологией. Просто «человека» не существует, и блокадные дневники только лишний раз доказывают, что никакое высказывания не является бесполым.
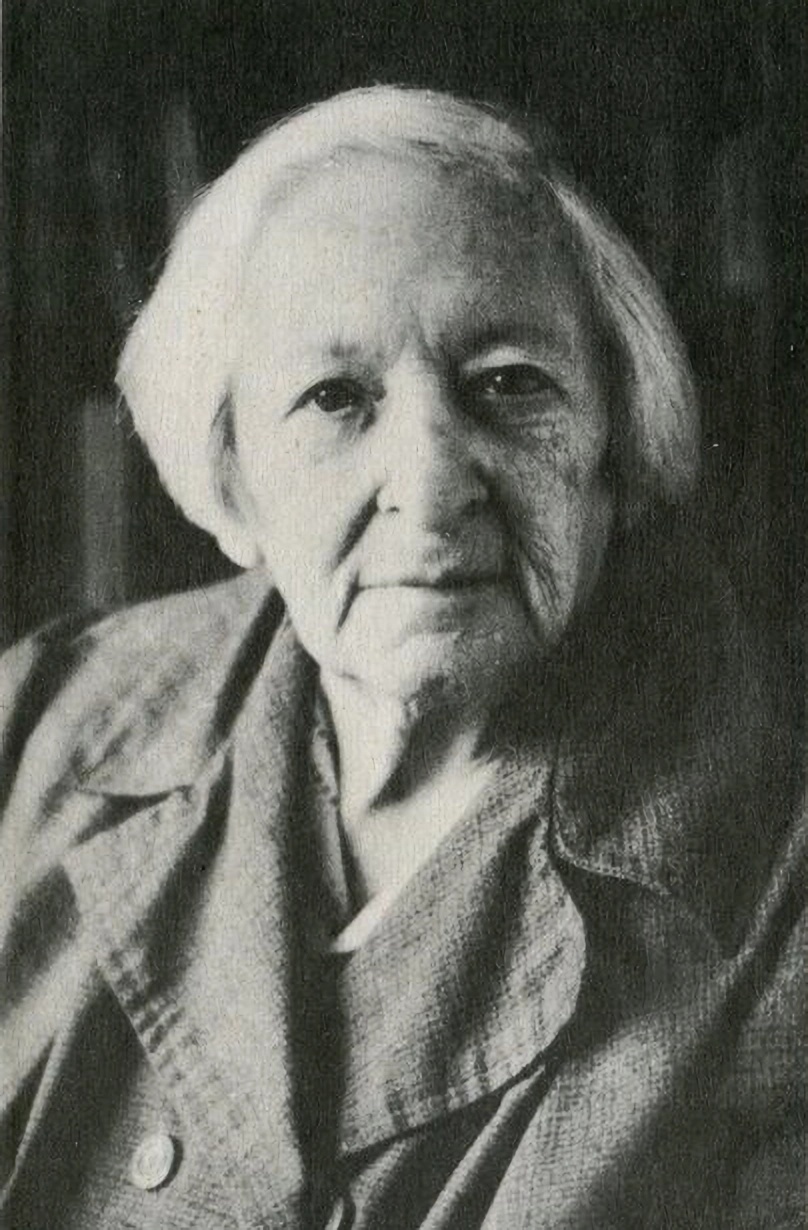 Лидия Яковлевна Гинзбург. Фото: jewishspb.com
Лидия Яковлевна Гинзбург. Фото: jewishspb.com– Ваша работа основана на гендерной теории Лидии Яковлевны Гинзбург. Вы пишите о том, что уже в 20-е годы она начала создавать свою феминистскую концепцию, которую сегодня можно «переоткрыть» и плодотворно использовать в научных исследованиях. Расскажите, что это за концепция и почему столько лет учёные её не замечали?
Алексей: Лидия Гинзбург – автор знаменитых «Записок блокадного человека», «Прозы войны» и «Дня Оттера», свидетель блокады, нашедший в себе силы изучать её повседневную жизнь со стороны как учёный. Хотя Гинзбург, естественно, не использует в 1940-е годы слово «гендер», она крайне внимательна к проявлениям мужского и женского в блокадном городе. Во вступительной статье к сборнику мы анализируем её тексты не как исторический источник, как это делали наши предшественники, а именно как источник научной теории – гендерной антропологии, которая складывается в триаду её оригинальных концептов: «автоконцепция», «самоутверждение» и гендерный «взгляд». Гинзбург не создавала феминистскую теорию, хотя и предвосхитила её. Она создавала универсальную теорию, в которой гендер является базовой категорией субъективности, определяющим фактором самосознания всякого человека и его/её кризисов. Женский взгляд и мужской взгляд, их перекрестья интересовали её в одинаковой мере.
Находясь в блокадном и послевоенном Ленинграде, Гинзбург формулирует вопросы, которые звучат поразительно остро и актуально даже в 2025 году. Почему утрата женственности или мужественности – это глубочайшая травма для любой личности? Что значит «настоящая женщина» или «настоящий мужчина» как политические, идеологические концепты? Как женщина самоутверждается, осваивая профессию, которую раньше считали мужской? Как государство по-разному мобилизует мужчин и женщин? Почему литература, театр и кино изображают мужчин и женщин так, а не иначе? Почему мужчины и женщины по-разному воспринимают время и быт, по-разному переживают страдания? Все эти и другие вопросы позволяют нам, историкам, глубже понять то, как женские и мужские дневники блокады структурируют гендерный взгляд советского человека.



 Женщины блокадного Ленинграда собирают останки убитой лошади и грузят на сани, чтобы потом использовать мясо в пищу. Фото: Давид Трахтенберг / РИА Новости
Женщины блокадного Ленинграда собирают останки убитой лошади и грузят на сани, чтобы потом использовать мясо в пищу. Фото: Давид Трахтенберг / РИА Новости Тела умерших жителей доставлялись на Большеохтинское кладбище. Фото: Виктор Барановский / РИА Новости
Тела умерших жителей доставлялись на Большеохтинское кладбище. Фото: Виктор Барановский / РИА Новости