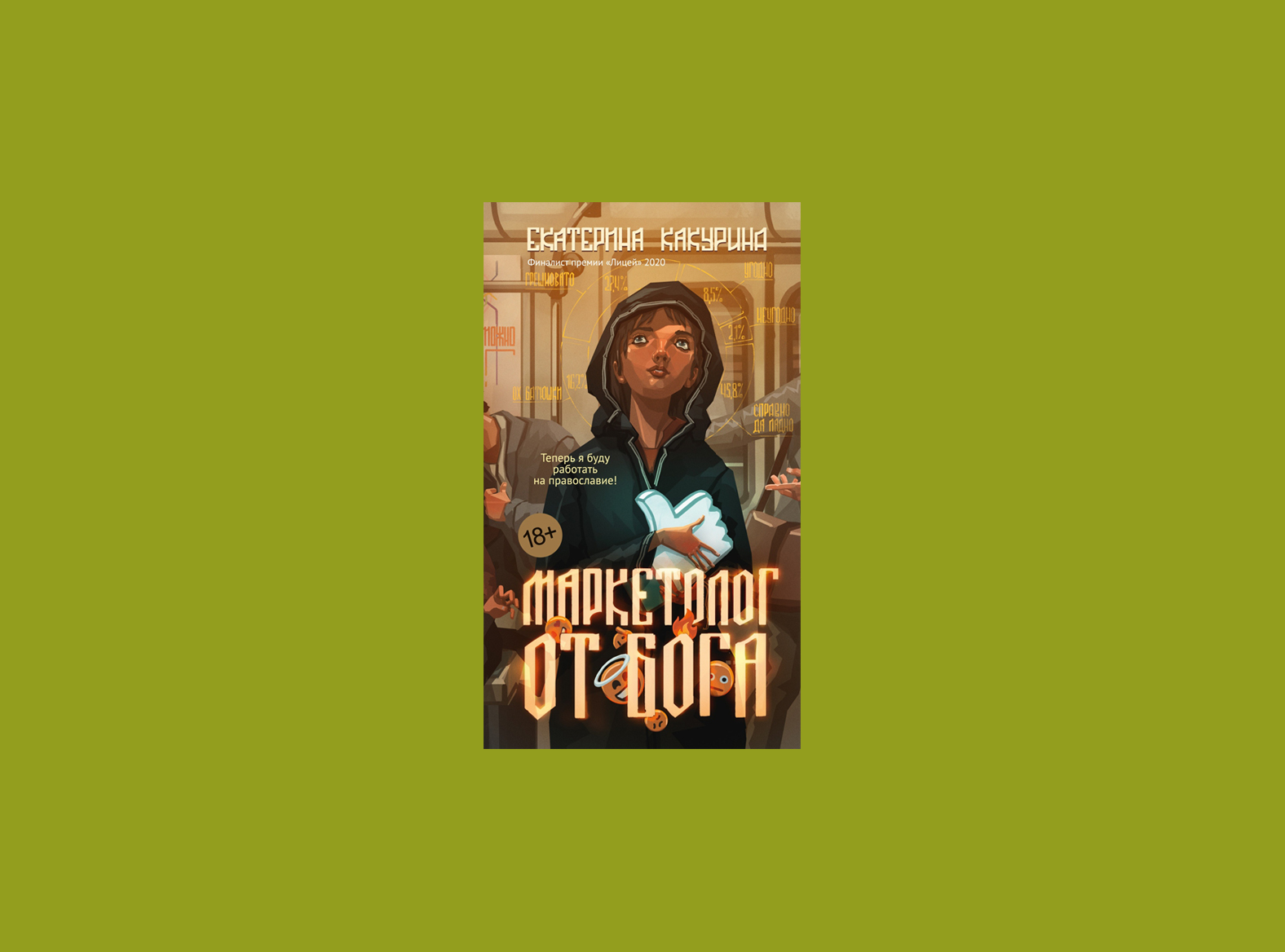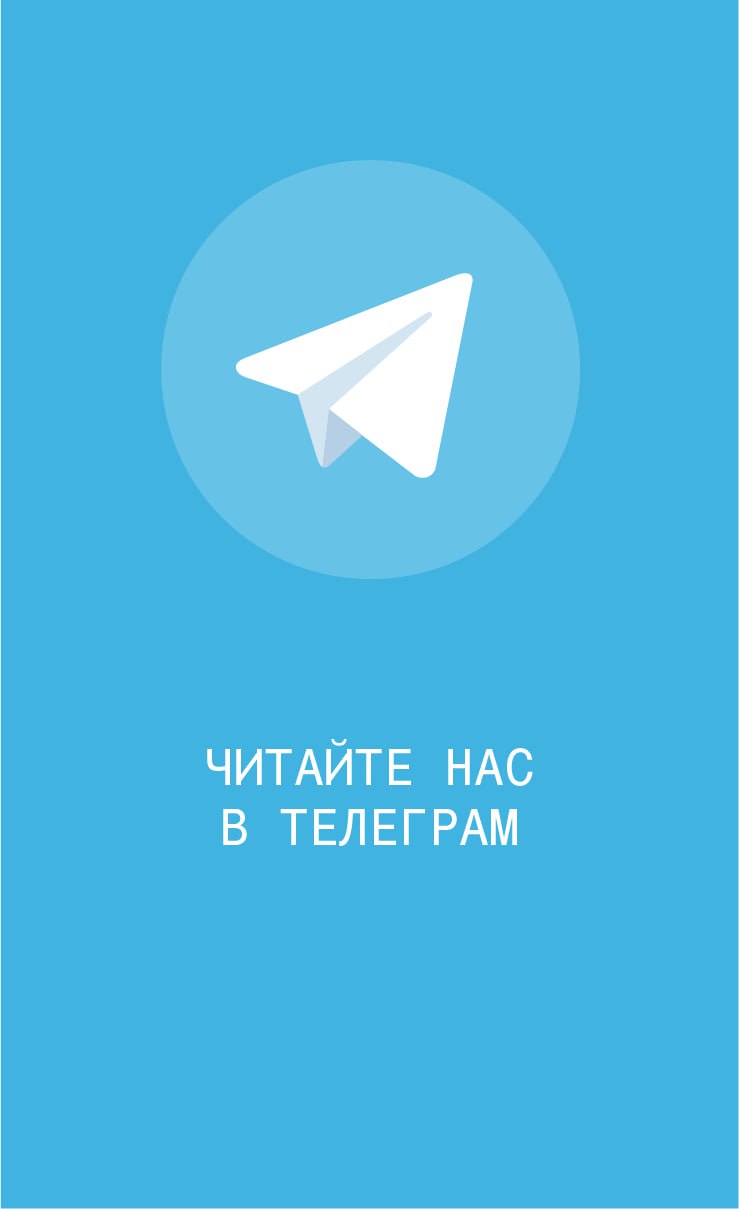Чуть меньше года назад в издательстве «Азбука», в серии «Азбука.Голоса», которую курирует литературовед, исследовательница феминизма Мария Нестеренко, вышла книга молодой писательницы Екатерины Какуриной с провокационным названием «Маркетолог от Бога». Аннотация обещала Москву 2013 года, то есть «до этого всего», двух юных дерзких подруг и новую работу для одной из них – маркетологом православной ювелирной мастерской, а сравнения с Салли Руни намекали на то, что книга даст такой портрет эпохи.
Читатели книгу приняли более-менее благосклонно, критики практически не заметили. Впрочем, с «литературой тридцатилетних» чаще всего так и бывает. Чтобы о молодом авторе заговорили после первой книги, автор должен не просто пройти в финал премий вроде «Лицея» или «Дебюта» (Какурина прошла), а выиграть. Но «Маркетолог от Бога» танцует на любимой общественной мозоли, поэтому, хоть ему и не светит всенародная слава, забывать его рановато. Что за мозоль? Экзотизация верующих.
Кажется, православие невозможно экзотизировать. Это что-то очень привычное, въевшееся с детства, данное и в ощущениях, и в фольклоре, включая мемы про попов на дорогих машинах – они тоже ведь разновидность фольклора, получается. Тем не менее факт остается фактом: современный российский горожанин – отдельно, христианский контекст – отдельно. Крещённые в детстве, но не воцерковлённые, люди вырастают и начинают глядеть на церковь с опаской – как на абсолютно чуждое пространство. Так оно и есть. Герои Какуриной в этом смысле – замечательное отражение своего времени. Они могут шутить антиклерикальные шуточки, но боятся переступить порог храма даже «по делу» – скажем, чтобы найти работу, ведь страшные христиане наверняка очень быстро «обрабатывают» человека: пара тайных христианских приёмчиков – и всё, прости-прощай свободная воля, нормальный человек начинает верить в Иисуса и с утра до ночи бьёт поклоны перед иконами. Таков тайный страх героинь, с одной стороны, а с другой – они очень хотят проверить себя на прочность и попробовать противостоять этим тайным христианским приёмчикам, побыть такими разрушительницами мифов.
 Фото: Кузьмичёнок Василий / Агентство «Москва»
Фото: Кузьмичёнок Василий / Агентство «Москва»В романе есть эпизод, когда таксист спрашивает, что не так с персонажами, которые подозрительно ласковы друг к другу, и когда ему отвечают, мол, «они просто христиане», он путает понятия: «христиане… не наше это всё-таки, мы всегда были православными». Главные героини (рассказчица и её подруга) на первый взгляд кажутся более «подкованными», но, в сущности, тоже совсем не разбираются, что это за зверь такой – христианство. Подруга выбирает путь злого журналиста-сатирика и заводит группу «Русский Православный Цирк», а рассказчица отправляется на новую странную работу с интересом, хотя и не без скептицизма. К концу книги обе изменятся: одной надоест обличать, другая всерьёз заинтересуется верой и верующими.
Основная мысль романа такая: за пеленой предубеждений в нас скрывается незнание. Мы совершенно не представляем, что такое «быть православным», и даже не понимаем, с какого конца начать от этого незнания избавляться. Наша агрессия – почти всегда реакция на страх неизвестности. Всё так. Среди нас, современных россиян, сейчас действительно мало тех, кто хотя бы приблизительно понимает, что такое православие.
Здесь можно осторожно предположить, почему «Маркетолог от Бога» оказался неинтересен критикам и пролетел мимо премий.
Ему недостаёт глубины, причём не потому, что писательница что-то не дотянула или не продумала, а в силу самой структуры. Героиня, у которой в начале книги был «первый взрослый разряд по изменам», завершает переоценку ценностей, выходит из кризиса четверти жизни и пытается как-то достойно справиться с первой большой настоящей любовью. Ей нужна серьёзная опора, и она её находит в церкви; к этому автор аккуратно ведёт чуть ли не с первой главы. Да, действительно, достаточно развитому мыслителю в один прекрасный момент приходится выбирать подходящую идеологическую рамку, потому что без неё очень сложно дальше расти в познании. На нигилизме и иронии далеко не уедешь, разрушить старое мало – нужно быть готовым построить новое. Спасибо, это мы проходили на уроках литературы, это Тургенев, «Отцы и дети».
Итак, героине нужна опора в жизни. Вначале она скептически настроена к христианству, потому что снаружи оно представляется ей набором бессмысленных запретов и устаревших установок. Нельзя то, нельзя это, Бог накажет. Но христианство привлекательно, как и всё неизвестное. Кроме того, в нём явно чувствуется тайна: что именно стоит за этими бессмысленными запретами? Может быть, некая мистическая награда действительно существует? Героиня попадает в христианскую среду и постепенно понимает, что была подвержена стереотипам и у всего, что казалось странным снаружи, вне христианского сообщества, изнутри есть логичное объяснение. В пост без животных белков активнее происходит нейрогенез, без опьянения остаётся время на диалог с собой, а диалог с собой часто запускает глобальную переоценку ценностей. К тому же в церкви важнее не возможность чуда, а условия для постоянной работы человека над собой. В итоге христианство становится для героини синонимом трезвой осознанной жизни, таким ЗОЖ-инструментом. Кстати, верующей она к финалу не становится, просто соглашается уважать христиан, не примыкая к ним, отказывается от открытого зубоскальства и находит способ свернуть проект «Русский Православный Цирк». В процессе сквозь размышления героини то и дело прорываются наставительные интонации автора: «Иду обратно по коридору и смотрю под ноги. Может, он просто нормальный? Однажды писатель Лимонов сказал моему другу: “Юноша, если вы хотите стать настоящим писателем, то вам нужно обязательно побывать в трёх местах: в тюрьме, в психбольнице и на войне”. Я бы ответила Лимонову: да, жаль, меня там не было, я ж не хожу на митинги, так вот я бы спросила: “А можно мне на нормального человека посмотреть? Я знаю, куда заводят крайности. А куда приводят сильная воля и чистый разум?” И сейчас я как будто наконец посмотрела».
 Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ
Фото: Александр Миридонов / КоммерсантъНа этом фоне всё изначальное недоверие героев к церкви смотрится как бунт семиклассника против капитализма, а за голосом автора чудятся ноты заботливого, но несочувствующего взрослого резонера: стерпится-слюбится, подрастёшь – поймёшь, что был идиотом, есть зелень на завтрак не равно отказываться от свободы, надень шапку, ступай в школу. Естественно, в одну небольшую книжечку и не получится впихнуть всё многообразие проблемы – вот у нас есть огромная махина вполне ещё живой религии с многовековой историей плюс эту религию представляет такая огромная институция, противоречивая, естественно неидеальная, и естественно существует общественная критика – религии, институции, обеих сразу. И даже если отвлечься от престижа православия и конкретно РПЦ, есть ещё одно измерение – христианский контекст в культуре. Вне церкви, вне таинств, вне церковной политики у нас есть день недели воскресенье, евангельские цитаты в книгах классиков и прочее неуловимое постоянное влияние христианства на тысячелетия европейской культуры. Свихнуться можно, как всё это сложно, многогранно и в заданную Какуриной оздоровительную программу для героев «Маркетолога» не вписывается. Иногда в романе проскальзывает что-то необъяснимое – вроде послушника, который сначала сбежал из монастыря, потом поучаствовал в маркетинговых войнах, слив шпиону базу данных православной гальванической мастерской, потом согласился прийти на антирелигиозный стрим, но на нём вдруг высказал презрение к суетному миру и желание вернуться обратно в монастырь. Но это паранормальное явление родом с курсов литературного мастерства: чтобы герой был живым, он должен иметь сложную мотивацию и действовать логично, но непредсказуемо. Если рассматривать этого беглого послушника не как упражнение по усложнению композиции, а как идеологически важную часть романа, получается ещё грустнее. Реальность (при поддержке автора) шлёпает героев по пальцам: не лезьте, критика христианства – тема не для вас, не доросли ещё, неразумные.
В итоге получается интересный эффект: на поверхности лежит замысел автора показать, что христианство – не идеологическое гетто для отсталых пенсионеров, а вполне себе живой и конструктивный образ жизни. Видно стремление снизить уровень экзотизации христианства – через отрицание, через образы ершистых подростков, которые не хотят мириться с лицемерием церковных политиков, которые пытаются прожить и осмыслить то огромное, что маячит куполами откуда-то из-за новостроек, причём прожить на своих условиях, не отказываясь от ночных тусовок, «Кровостока» в наушниках и ехидных цитат из актуальной прозы (чудесная шутка «солидные кресты для солидных господ» – перифраз пелевинской рекламы «солидный Господь для солидных господ»). Но тема оказывается слишком вёрткой и выворачивается из-под пера. В романе остаётся пропаганда христианского образа жизни для современного горожанина, реклама христианской нормальности, но нет самого христианства, потому что не хватает глубины конфликта. Захлопнулась ловушка формы: в попытках показать христиан нестрашными, предсказуемыми, в целом приятными и обычными, не лучше и не хуже стандартных соседей в многоквартирном доме, автор упустил шанс поговорить о действительно мощном конфликте, который возникает при этом взгляде со стороны: не просто зожные навыки удерживали людей на этом свете посреди всех ужасов ХХ века, не на лёгкую оздоровительную прогулку молодые интеллектуалы с такой страстью последовали за Александром Менем. Сложнее всё.
Однако радует, что вообще появляются в литературе попытки поговорить о современном православии и об образе современного христианина. Естественно, учитывая дикую многогранность темы, большинство этих попыток будут неудачными. Однако продолжать безусловно стоит. Мы, читатели, готовы к этому разговору, более того – он нам необходим.