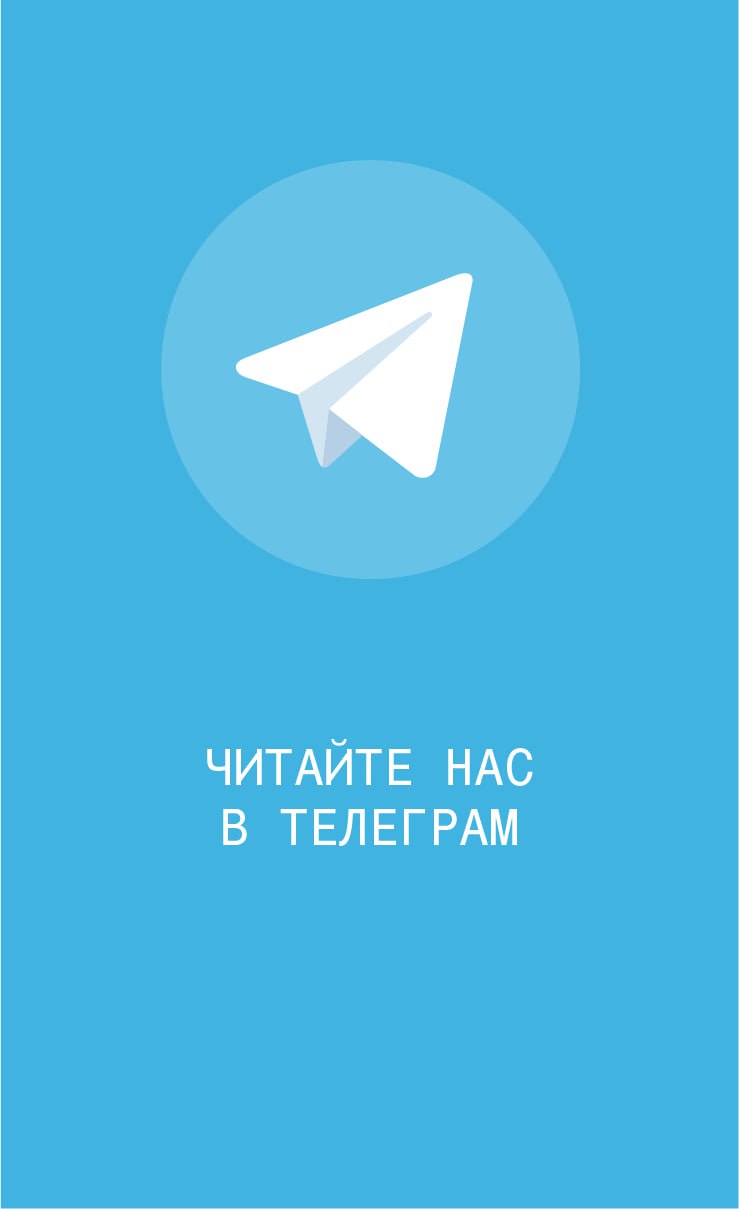ФОМ проводит опросы о русском характере, ВЦИОМ рассказывает о русском коде, правительство создаёт реестр традиционных ценностей… Русская тема взята на вооружение. «Стол» же думал о русском, пока это ещё не было модно, и будет думать – не спеша и основательно.
Мы начинаем совместный спецпроект с «Русским университетом»: серию разговоров с нашими авторами и экспертами о русском самосознании. Что значит быть русским? Есть ли у русских своя идея? Остались ли свои свои святыни? И что такое наши реальные «традиционные ценности»?
Эти беседы не содержат готовых формул – они длят разговор и намеренно втягивают в него читателя. Калейдоскоп собранных бесед составит одну из граней экспертного исследования «Русская среда». Комментарии приветствуются!
Первое интервью в рамках исследовательского цикла о национальном самосознании «Русская среда» – с музыкантом, этнографом, человеком, уже давно не нуждающимся в представлении, – Сергеем Старостиным.
– Мы собираемся говорить о русском. О русском Сергее Старостине в том числе, поэтому, позвольте, начнём с самого простого – обстоятельств вашего рождения.
– Ну, где я родился – об этом лучше знают мои родители.
– Верю! А что сохранило семейное предание?
– Я родился в Одинцове, в первом роддоме. Это был сюрприз для папы с мамой, потому что родился я 1 января. Что ещё добавить к обстоятельствам рождения – не знаю. Я едва выжил, потому что, когда мне было 6 месяцев, меня напоили некипячёным козьим молоком, после чего открылась обширная дизентерия. Как-то выбраться из этой ситуации мне удалось только благодаря прямому переливанию крови папы. И потом, вплоть до 14 лет, я представлял собой белую простыню. Худющую, совершенно ничего не желающую: ни есть, ни расти, ни развиваться. Такой росток чахлый. Но зато пел.
– Если метафорически думать, можно решить, что так вы получили первую суровую прививку деревенской культуры.
– Возможно. Правда, было это в Подмосковье, в городском посёлке. Уже в школе я проявил себя как человек музыкальный, пел на всех концертах, на всех официальных мероприятиях. Репертуар тогда был самый расхожий, никаких народных песен я не знал. Из школы меня направили в капеллу мальчиков, где я уже перепел всю классическую музыку, какую было возможно. Потом поступил в консерваторию по классу кларнета, играл в оркестре. И только после первого курса консерватории я оказался в первой фольклорной экспедиции, которая в корне поменяла моё музыкальное мировоззрение. Там я понял, что есть какая-то культура, которая меня сразу берёт за горло, за душу, минуя всякие, так сказать, интеллектуальные фильтры, которые существуют в голове образованного человека.
– Как вы туда попали?
– Случайно, абсолютно случайно. На факультете теории и истории музыки была летняя практика, экспедиции. Друзья оттуда меня просто пригласили, мол, поехали с нами. – Куда? – В Рязанскую область. – А что делать надо? – Магнитофоны носить, с техникой помогать. Ну, думаю, это я могу. А из экспедиции вернулся совершенно другим человеком, с которого сошла вся академическая шелуха, который понял, как у нас, оказывается, в народе всё глубоко и интересно.
– В кругу родных вы не сталкивались с народной традицией?
– У меня родители были деревенские, бабушка знала и песни, и потешки, но это как-то особо не проявлялось, только по отдельным поводам, исподволь. А тут я выехал вовне и увидел людей, которые с тобой легко делятся народной культурой – через голос, через песню. У меня возникли первые сомнения, а правильной ли дорогой я до того шёл.
– И что дальше?
– Я продолжил честно учиться в консерватории, сдал экзамены, полтора года отслужил в армии. А потом встал перед выбором: либо продолжить музыкальную карьеру, поступить в какой-то оркестр, либо заниматься чем-то другим. Это был 1982 год. Я мог, например, пойти в ансамбль Дмитрия Викторовича Покровского – фактически, первый коллектив, который пел фольклорный материал, но мне хотелось большей свободы, поэтому я оказался в кабинете народной музыки Московской консерватории. Это не приносило никаких финансовых дивидендов, но меня всячески устраивало.
– По внутренним причинам.
– Да, по внутреннему содержанию этой деятельности. Я бросился в фольклорные экспедиции и с 1983 года очень много общался с самыми разными людьми. Ещё многих застал. В советский период разрушение деревни шло интенсивно, это был длительный и непростой процесс, спровоцированный определённой идеологией. Чего только стоит обращение города к деревне: «У-у-у, деревенщина»... Поэтому у поколений, рождавшихся в деревне в 1960–1970-е годы, не было никакого желания оставаться на своей земле. А другая рукотворная проблема, которой я вплотную занимаюсь, – это отрыв послевоенных поколений от своих корней, своего уклада и своей культуры. Очень жестокий насильственный отрыв. После революции одной из задач большевиков было провести, выражаясь современным языком, перезагрузку культурной матрицы народа. Задача была поставлена, и она планомерно выполнялась. Зачем вам ваши рубахи? Мы дадим вам рубашки общего покроя. Зачем вам ваши песни? У нас работают профессиональные композиторы, они всё для вас напишут – и вы будете петь и радоваться жизни… Про трактора, про электрические столбы, про всю красивую колхозную жизнь. Конечно, не всё сразу разрушили, и вплоть до 2000-х годов фольклористы находили крохи русской народной культуры. Но механизм разрушения действовал: наследие, хранимое народом, в ХХ веке должно было умереть, дальше идти предполагалось, опираясь на совершенно другой багаж. Только вот сам Советский Союз умер. И что получилось? Наверное, мы имеем уже пятое поколение, которое находится как бы в состоянии ожидания своего наследства, всё поставлено «на паузу». Но как может наследство быть «до востребования»? Оно начинает истлевать, разумеется. И даже в буквальном смысле слова: все аудиозаписи народных песен из деревень, где жили наши предки, разбросаны по разным архивам и находятся часто в очень плохом состоянии. Дождутся они нас или нет – не знаю.
 Жители деревни Зехнова Плесецкого района Архангельской области в народных костюмах во время уличных гуляний. Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ
Жители деревни Зехнова Плесецкого района Архангельской области в народных костюмах во время уличных гуляний. Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ– В чём вы видите эту трагедию – отрыва от корней? И чего нет в советской, постсоветской идентичности, что было в русской?
– В советской идентичности есть всё, если ты хочешь жить, так сказать, по понятиям советского человека. Там всё есть. Свои честь, совесть и ум.
– Просто это совсем другое, так?
– Конечно. Принципы другие. Советское – это безликое. В истории, конечно, оставались определённые личности, себя проявившие, и мы почитали их как пантеон богов: ЦК Политбюро и далее по списку. Была такая советская вера, но как-то ни к чему она не привела: вера во Христа тысячелетия жила, а вера в коммунизм и века не продержалась. Ну и что она оставила после себя? Некоторые вещи, конечно, не перевелись: есть до сих пор и советский тип мышления, и советский человек. Я тоже советский человек. Просто я, будучи советским человеком, открыл для себя другой мир, первозданный, более первичный, чем всё советское. И я отдаю ему предпочтение. Я понимаю, что именно в нём были заложены основные и очень правильные понятия для жизни человека.
– Какие же?
– Всё, что связано с именем Христа, с верой во Христа. Всё. Ценности любви прежде всего. Любви к миру, к человеку, мира внутри себя, несогрешения по разным поводам и так далее. Я говорю: большевики тоже не дураки, они все эти вещи присвоили себе, внеся раздрай в жизнь русского человека. Многим было непонятно, во что верить, по большому счёту. Возникло двоеверие, какие-то парадоксальные вещи. А теперь уже никого и не удивить парадоксами: коммунисты легко и истово сближаются с православием, с батюшками обнимаются по праздникам. Мы живём в удивительное время.
– И ещё непонятно, к кому больше вопросов: к коммунистам или батюшкам.
– Ну да, вопрос, к кому больше вопросов. Ладно, не будем в это дело погружаться. В русской культуре, в традиционной культуре нет обезличивания. Нет абстрактных добра и мира во всём мире, а есть конкретные связи любви с близкими и ближними. Поэтому эта культура человечнее. То, что она несёт, – это не подарок от какого-то абстрактного дяди на день рождения, который пришёл и вручил: «Вот вам подарок, столько-то килограммов чистого добра». А вы кто вообще? Как вас звать? А пойдёт ли мне на пользу ваше добро? Вы откуда? С чем пришли? Знаете ли, что мне нужно? Вот ведь. И выбор довольно простой: следовать ли мне за этими, так сказать, коммунистическими или какими ещё идеями добра или идти за простыми вещами, которые мне достались от предков. Какую, как вы думаете, главную мысль формировали наши предки, жившие столетиями на русской земле?
– Очень сложно ответить.
– Я бы так сказал: они думали о жизни на Земле. Они думали о ней, постигая в том числе космический мир: да, у них не было космических кораблей, но они смотрели на небеса и увиденное там соизмеряли со своей жизнью здесь. Космос был близким, он был подсказчиком.
– Как в русском духовном стихе.
– Вот именно.
– Вы сказали, что вы советский человек. Но не может быть, чтобы не могли назвать себя и русским тоже.
– Ну не знаю. Это, конечно, слишком почётно. Слишком почётно назвать себя русским человеком, потому что до русского человека ещё плыть и плыть, на самом деле. То, что вот в глубинах русскости содержится, – о Боже.
– Что нужно делать, чтобы туда доплыть?
– Я не знаю, что нужно делать, я просто делаю то, что я могу сейчас делать. И это помогает мне в жизни встречать людей, которые близки по духу. Окружение близких людей, думающих так же, как и я, наполняет меня радостью того, что – да, наверное, во мне что-то действительное русское формируется. Я сейчас понимаю, что очень многим людям благодарен, не только живым, но и почившим. Благодарен, например, русским писателям. Начинаю ценить их вклад. Какими бы они ни были по своим взглядам – консервативными, либеральными, ещё какими-то – они всё равно писали о русском. И русская философия так же ценна, хотя постоянно кто-нибудь да и начнёт говорить, что русской философии не существует.
 Сергей Старостин (справа). Фото: vk.com/vladimirskaya_vechora
Сергей Старостин (справа). Фото: vk.com/vladimirskaya_vechora– Русская религиозная философия всё-таки точно есть.
– Да. И христианская философия, и практика. Я часто встречаюсь с очень разными, нестандартными, по-настоящему верующими людьми, батюшками-служаками, которые получают по шапке, а всё равно делают своё дело, которые горы двигают и решают совершенно нерешаемые задачи.
– Как вы думаете, есть ли что-то такое, что воодушевляет всех русских?
– Я думаю, что русские не являются здесь исключением: сам факт общей песни всегда воодушевляет людей. И воодушевляет, и привязывает. Опять же, это очень хорошо просчитали большевики, которые подменили русские песни новыми, советскими. И до сих пор значительная часть советских русских поёт именно эти песни. И делает это с удовольствием, потому что, конечно, сам факт совместной вибрации является объединяющим.
– Не могу не уточнить: мы с вами говорили о русском, говорили о советском. А есть ведь ещё один конструкт – российское, вошедший в активный обиход с 1990-х годов. Как он вам? Что обозначает, на что указывает?
– Ну здесь я вам ничего не скажу. Это не ко мне, а к тем изобретателям, которые эти конструкты придумывают.
– То есть вам кажется, что это тоже нечто безосновное, дальше конструкта не идёт?
– Это всегда беда, да. Мне кажется, что русский человек должен чувствовать почву под ногами, и культурную в том числе. Не просто быть крестьянином, например, по факту своей деятельности, а чувствовать свою почвенность, многовековую историческую связь со своей землёй. Если человек эту связь не ощущает, то трудно претендовать, как мне кажется, на звание русского человека. Проблема беспочвенности повсеместна, особенно ярко она чувствуется в таких местах, как, например, Калининград или Сахалин. Там более 80 процентов подростков, если верить опросам хоть в какой-то мере, не связывают свою будущую жизнь с этим пространством. Какая-то здесь должна быть очень продуманная, очень серьёзная тема по выстраиванию самоидентификации людей в историческом контексте, в связи с судьбами России. И это всё, действительно, сложно.
– Может, нужно всё-таки доформулировать русскую идею? Это вообще допустимый ход: искать общих идей?
– Я не уверен, что есть какая-то сверхособенная, или сверхсовременная, или ещё какая русская идея. И не может быть она, по большому счёту, сформулирована так, чтобы просто «бери и пользуйся». Кажется, что объединяемся мы всё-таки не на уровне идей. Если взять сейчас русских людей, рассыпанных по всему свету, и спросить их: по каким параметрам вы себе считаете русскими? Можно столько разного услышать, что никакой идеи не хватит это всё связать.
– А какие для вас критерии были бы важны? Вы уже упомянули, что русский – это тот, кто ощущает многовековую связь со своей землёй, со своими предками. А что насчёт веры?
– Тут уж мне никуда не деться, потому что не оторваться мне от своей истории, потому что мои предки жили в этой вере – и что мне искать. Причём я знаю, что они, живя в этой вере на протяжении многих веков, создали совершенно уникальный культурный контент, который мне помогает во всём. Если мне нужно себя в чём-то убедить или куда-то направить, я просто вспоминаю из своего, так сказать, багажа какую-либо мудрость или какую-то песню. Мне этого вполне достаточно. Помню, мы как-то были в фольклорной экспедиции и попросили одну бабушку попричитать по своему мужу, как она это обычно делала. И рядом оказалась её внучка, уже сознательная, лет 14. Она была в совершеннейшем шоке: бабушка для неё открылась с другой стороны. Она всякое могла предположить, но что бабушка будет так причитать о дедушке… В общем, у неё в голове пошла какая-то работа, так что в конце девочка спросила: «Бабушка, как же я-то буду, когда вырасту, я ведь этого никогда не передам, я этого совсем не знаю». Бабушка её успокоила, мол, ты ведь сидела, слушала – придёт время, найдёшь и слова, и мотив, если будет искреннее отношение. Конечно, это было сказано как бы авансом, потому что один раз услышать мало, нужно понять, какую роль может играть художественное высказывание в жизни человека, прочувствовать это. Что пение имеет ритуальный характер – это любой учёный скажет. Но ведь оно имеет ещё и огромное терапевтическое значение: это лечение своей нервной системы. Я вообще думаю: не имей русские женщины такого колоссального лекарства, как причты и плачи, они бы все сошли с ума, потому что в русской истории было столько такого, что ни в сказке сказать, ни пером описать… и потерь, и испытаний. Сегодня психическая стабильность утрачивается как раз на фоне отказа от понятных и известных терапевтических средств, которые всегда были в народе.
 Верующая с ребенком возле чудотворной иконы Божией Матери «Целительница». Фото: Авилов Александр / Агентство «Москва»
Верующая с ребенком возле чудотворной иконы Божией Матери «Целительница». Фото: Авилов Александр / Агентство «Москва»– Кажется, что сейчас обозначился поворот в сторону традиционных ценностей. Во всяком случае, на официальном уровне. Связываете ли вы с ним какие-то надежды?
– Знаете, я не жил при царе, но я жил в Советском Союзе. И в Советском Союзе говорилось очень много правильных слов. Если не всё, что говорилось, было правильным. Точно так же и сегодняшние элиты говорят очень много правильных слов. Вопрос в том, что при этом делают. И вопрос, как понимают механизм реализации того, о чём они говорят. Когда на Всемирном русском народном соборе заговорили о традиционных ценностях, я даже ВКонтакте разместил прекрасную цитату президента и сказал, что всеми руками и ногами за сказанное. Остаётся дело за малым: пожалуйста, напишите мне адрес, дайте телефон, по которому я могу получить эти традиционные ценности, о которых вы говорите. Понятно, что президент не обязан раскрывать механизмы. Это обязаны делать те чиновники, которые будут заниматься исполнением указа. Так и представляю: сидит чиновник у себя в кабинете, копается, папки перебирает, бумаги перекладывает: где у нас тут, мол, традиционные ценности завалялись?
– Ну а что ему ещё делать? Можно ИИ спросить, видимо.
– А делать надо очень простое – отнеси вопрос о традиционных ценностях к себе. Начать с себя: что во мне, что в моих прадедах и прабабушках было того, что я действительно ценю? Проблема вся в том, что исполнительная власть указ о традиционных ценностях не относит к себе. Они кого-то там хотят сделать традиционными (молодёжь особенно), а сами останутся – как есть: советскими, российскими… А могли бы почесать репу и подумать, а где набраться-то этих, так сказать, традиционных ценностей? Где взять-то их? Купить в магазине? По телевизору увидеть? «Я хочу пачку традиционных ценностей. Привезите мне, пожалуйста», – это куда должен быть запрос?
– Кажется, что все имеют в виду разное, когда говорят «традиционные ценности».
– О чём я и говорю, что нет никакой конкретики.
– При этом в указе конкретика есть: все традиционные ценности перечислены.
– Давайте копнём ещё дальше: да, традиционные ценности названы. Но я не скажу, что назван их первоисточник. Церковным людям хорошо известна заповедь: нужно почитать своих родителей. Если мы этого не делаем, мы себя отрезаем от опыта прошлых поколений, начинаем строить что-то небывалое, пусть и называемое традиционным. Но это не работает. Свобода от собственных предков – иллюзия. Встав на этот путь, тут же попадаешь в худшую зависимость. И вопрос обретения традиционных ценностей – это вопрос возвращения к своим предкам, к исконной русской традиции прежде всего. Этот вопрос может быть решён, допустим, если массе чиновников, занятых исполнением президентского указа, станет интересно, а как, допустим, пели их прабабки в том или ином селе. А что в ХХ веке стало с тем селом? А что сейчас с ним? Вот о чём речь. Было бы больше толку, если бы масса этих внедрятелей традиционных ценностей просто открыла людям доступ к тому богатейшему наследию голосов, песен, мыслей их предков, которые сейчас известны только узкому кругу фольклористов. Все эти записи из экспедиций, записи из деревень, откуда родом в том числе наши чиновники, – они разрознены, они ветшают и они, по большому счету, никому не нужны. Это для меня показатель реального интереса к традиционным ценностям. Я чаю такого «воскресения мертвых», воскрешения голосов наших предков, а не общеобязательной сдачи ГТО по традиционным ценностям.
 Финалы кубка Москвы «Игры ГТО 2022». Фото: Сандурская Софья / Агентство «Москва»
Финалы кубка Москвы «Игры ГТО 2022». Фото: Сандурская Софья / Агентство «Москва»– Ввиду упомянутых разрывов между словами и делами каким вы видите будущее русской культуры?
– Процессы в обществе идут разные. Сейчас очень сложно сказать, как и что будет складываться. Я знаю единственное: что где-то полвека назад произошёл очень важный сдвиг, способный повлиять на наше будущее, когда часть тогдашней советской молодёжи вдруг задалась вопросом, во что ей верить. Сундучок с советскими идеями иссяк, всё исчерпалось, и вот возник этот поиск. Потом он потерялся в разнузданном и непонятно каком капитализме 90-х, но снова пробивается. Опять нам непонятно, зачем мы живём и что является основой нашего дальнейшего существования. И вот эти вопросы – они влияют, конечно, на будущее. Любой цивилизацией движет культурный контекст, её подвигает вперёд, когда люди задумываются: на что я могу опереться в этой жизни? Полвека назад часть молодёжи задалась этим вопросом. Многие пришли к вере, а ещё – к своим корням. Потому что нужны не только христианские ценности – нужен и культурный контекст своей, подлинной жизни, в котором они могут воплощаться. Есть мир, в котором я призван как христианин жить. В этом мире всё смешано, но есть и какие-то точки опоры, что-то подлинное, не фальшивое: это опыт твоих предков, судьба земли, на которой ты вырос. Пока нам показывают накрашенных барышень в кокошниках – предки от нас безмерно далеко. Фальшивки живут и продолжают жить. Но за полвека накопилось немало тех, кто научился их различать, кто знает подлинную культуру и уже понять не может, как вообще выжить без драгоценного опыта русской традиции. Более того: сейчас уже третье поколение рождается от тех впервые опомнившихся советских людей. Тогда они были чистым андеграундом. Сейчас уже не совсем. Если раньше таких людей было несколько сотен, то сейчас уже сотни тысяч. Мало? Мало. Но это всё вопросы роста и того, сколько времени нам Господь на это отведёт. Процесс идёт по всей стране, в любом городе есть люди, с которыми мы говорим на одном языке. Они есть и в интернете. Скажем, замечательный проект «Век»: люди в своей посведневной одежде в обычной жизни поют песни, которые им достались от предков. Это всё подлинное.
– Можем ли мы сказать, что у русских людей обретаются или возрождаются какие-то общие святыни? Некий общий ценностный уровень, который превышает все идеи?
– Мне кажется, мы на пути. Я не готов ответить на этот вопрос сейчас – и по одной причине: я думаю, что идёт такое соборное формирование этого ответа. Бессмысленно сейчас все эти ярлыки навешивать, в очередной раз говорить: «моя Святая Русь» или «матушка Святая Русь». Не надо мусолить, лучше о божьей коровке спойте, чем о Святой Руси. Может быть, как раз и главная мысль русских – это молчание в тишине. Продуктивное. Как бабушки на Севере говорят, когда соберутся чай попить вместе: хорошо помолчали. Посидели, помолчали и разошлись. Может быть, это самое ценное сейчас и есть: вот так быть вместе.