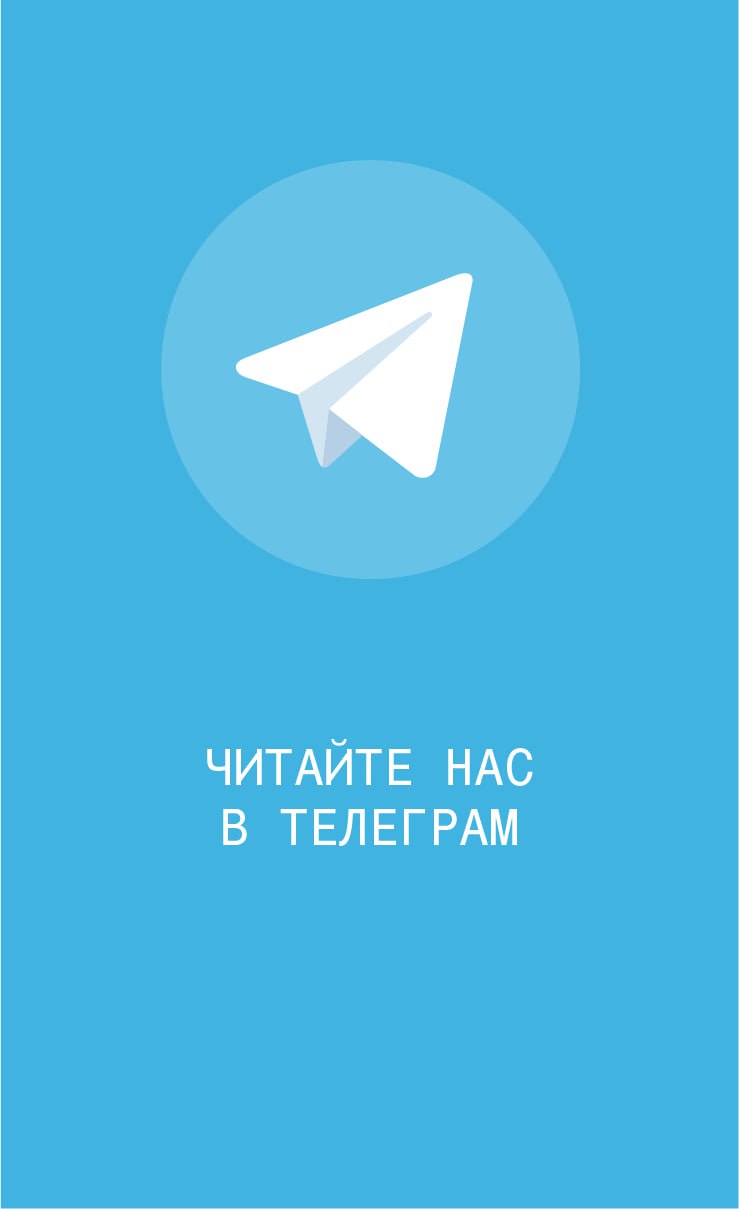Никаких предпосылок к искусству в его семье не было. Его отец был зажиточным прасолом – то есть крестьянином, который занимался мясным делом, покупал и выращивал скот для забоя. И все родственники отца занимались мясным делом. У них был родовой дом в в деревне Прилуки Серпуховского района Московской области.
Мама – из московской купеческой семьи.
Когда по стране прокатилась революция, они с мужем решили переехать в Москву. Жили в простом доме, пусть и в Ермолаевском переулке, на Патриарших прудах, и никаких предметов искусства или альбомов у них не было – нужно было выживать, а не картинки рассматривать.
* * *
Ещё в школе Володя Немухин решил стать художником. Занимался в московской изостудии ВЦСПС в Доме Союзов. Художественным руководителем студии был Константин Юон, а в младшей группе, где учился Немухин, преподавал Пётр Соколов. Соколов – сам ученик Машкова, бывший ассистент Малевича – стал для Немухина не просто главным учителем, но связующим мостиком с миром авангарда, где можно было рисовать не по правилам, а так, как чувствуешь сам.
Затем Немухин поступает в Московское городское художественное училище на Чудовке (это в районе «Парка культуры»). Его однокурсницей была художница Лилия Мастеркова – не просто будущая жена, но соавтор и единомышленник. И в художественном мире фамилии Немухина и Мастерковой вскоре станут так же неразрывны, как, например, союз Михаила Ларионова и Натальи Гончаровой.
В 1948 году Немухин устроился на работу в «Советский печатник», и в его обязанности входила сверка литографических оттисков с оригиналом.
Через несколько лет его устроили иллюстратором в журнал «Вокруг света», затем он переходит в конструкторское бюро художником-оформителем, в чьи обязанности входило изготовление плакатов и стендов с моделями будущих самолётов.
Вступает в Городской комитет художников-графиков и Московское товарищество художников. Эти организации помогали своим членам избежать обвинений в тунеядстве.
* * *
В середине 50-х происходит ещё одно знакомство, навсегда изменившее жизнь Владимира Немухина. Его другом становится художник Оскар Рабин, который вводит стесняющегося крестьянского мальчика в мир столичной богемы.
Хрущёвская «оттепель» для художественной жизни стала эпохой квартирных показов и выставок. В среду собирались в мастерской у одного живописца, в пятницу или воскресенье – у другого. Всё это держалось не то чтобы в строжайшем секрете, но только для своих, и попасть в этот круг «посвящённых» без протекции было решительно невозможно.
Но Оскар Рабин ещё в годы войны стал заниматься в художественной студии при Доме пионеров Ленинградского района Москвы, которую организовал в конце 30-х поэт и художник Арсений Альвинг. В 1943 году, после смерти Альвинга, руководителем студии был назначен художник и поэт Евгений Кропивницкий, выпускник Императорского Строгановского художественного училища, член арт-группы «Бубновый валет».
Ещё один ученик Кропивницкого – известный детский поэт Генрих Сапгир – вспоминал:
– Я знал Евгения Леонидовича с 1943 года, со своих пятнадцати лет. Нередко я оставался у него ночевать, и тогда мне стелили на полу, на который клали фанеру и кое-какую одежонку – комнатка была мала, в ней жили еще его жена – художница Ольга Ананьевна и дочь Валентина. Сын Лев был на войне. Со временем появились и другие ученики как в поэзии, так и в живописи. Мы гуляли по окрестным паркам и лесам, читали и без конца беседовали об искусстве. Это был истинный учитель и магнетическая личность. Как я понимаю, он каждому неофиту давал проявить себя и поддерживал его в этом стремлении. Почему его в своё время не арестовали – не знаю.
Однажды у Кропивницких Генрих увидел Оскара Рабина, рисовавшего под руководством учителя. Они подружились и решили вместе жить: так было легче. Студийцам Дома пионеров полагались карточки на хлеб. Чтобы не съесть весь паёк сразу, Генрих ходил за хлебом утром, а Оскар вечером. Кроме того, Оскару удалось устроиться работать, и он получал в столовой похлёбку. Генрих приходил в эту столoвую, похлёбка иногда оставалась, и ему давали тоже.
Оскар Рабин вспоминал:
– Кропивницкий не давал чисто технических навыков. Он давал нам ту информацию, тот общий уровень культуры, которого нам не хватало. Что было в искусстве начала века, что было под запретом. Негде было посмотреть, узнать. А то, что к нему тянулись... А куда ещё тянуться? Нигде больше этого не было. Кроме того, есть люди, у которых от природы талант, призвание учителя. Но он и сам был разнообразный художник. Все знают в основном его «девушек». А ведь когда он был молодой, то увлекался кубизмом, экспрессионизмом. Хотя, пожалуй, наиболее сильно он выразил себя в поэзии.
Причём занятия чаще всего проходили не самом Доме пионеров, а в квартире Кропивницких – в маленьком домике на станции «Долгопрудная» Савеловской железной дороги, где он жил вместе с женой, художницей Ольгой Ананьевной Потаповой.
В тот же район – вернее, в барак в посёлок Севводстрой рядом с железнодорожной станцией Лианозово и посёлком Долгопрудный – вскоре переехал и Оскар Рабин, который женился на Валентине – дочери Евгения Кропивницкого.
* * *
Квартира и по совместительству мастерская Рабиных со временем превращается в один из главных центров художественной жизни Москвы: там проходят выставки, Холин, Сапгир и Некрасов устраивают поэтические чтения. В Лианозово начинает приезжать не только московская, но и – нелегально – иностранная публика.
Владимир Немухин вспоминал:
– Пейзаж тех мест был весьма типичным для послевоенного Подмосковья: закопчённые бараки, покосившиеся крестьянские избушки, забор и вышка спецлагеря, опутанные колючей проволокой, сонные пруды, огороды, сортирные будки, куры, козы, очередь у керосинной лавки… Мы собирались в комнатушке Оскара Рабина, показывали свои работы, обсуждали их, катались на лыжах, выпивали. Ходили в гости к «деду», гуляли с ним по парку, беседовали… В те годы в Лианозове вообще побывало огромное количество людей. К Рабину, например, и Эренбург приезжал, и Мартынов, и Слуцкий, и Назым Хикмет, который уверял нас, что через десять лет (это было в 1956) всё будет совершенно по-другому, всех будут печатать и не надо будет писать «чёрные стихи». Он даже мне книжку свою подарил и нарисовал там лампочку, чтобы я, дескать, писал «посветлее».
Генрих Сапгир писал:
«Это было содружество, куда приезжали все вплоть до Бродского или Горбовского, все, кто хотел, все, кого ни назовите. Художник мог показать новую картину, поэт мог почитать стихи, выпить могли все. Не было у нас единой платформы… Хотя была: потому что мы всё-таки (теперь уже видно) – я, Рабин Оскар, Игорь Холин – мы ученики Кропивницкого. В “Лианозово” были и другие абстрактные художники вроде Немухина, и всякие. Был Сева Некрасов (он совсем другой), был Ян Сатуновский, который пришёл в “Лианозово” вполне сформировавшимся поэтом. Сатуновский обрадовался нам ужасно – он как будто увидел родственников, а до этого был совсем один«».
* * *
28 июля 1957 года в Москве открылся VI Всемирный фестиваль молодёжи и студентов – первый масштабный смотр зарубежного современного искусства в послевоенном СССР, с которого принято отсчитывать рождение второго авангарда. В СССР впервые показали полотна американских авангардистов Джексона Поллока и Марка Ротко (годом раньше в столице прошла первая выставка Пабло Пикассо).
Владимир Немухин вспоминал:
– Уже перед фестивалем мы все не столько чувствовали, сколько предчувствовали: что-то должно случиться, должно появиться что-то совершенно новое, сути которого мы ещё не знали, не понимали. И когда это произошло, словно солнце встало иначе. На нас с Лидией Мастерковой выставка произвела очень сильное впечатление. Мы возвращались молча, потрясенные. Это был первый, очень активный импульс нового мироощущения, нового типа сознания, нового состояния души…
Вскоре Мастеркова уже создала свою первую абстрактную композицию. Но вот Владимир Немухин начинает искать свой стиль. Сделав несколько вещей в стиле Поллока (то есть разбрызгивая краски по холсту), Немухин медленно вырабатывает свой стиль и неожиданно находит фишку в раскладе игральных карт.
Сегодня, когда засаленные колоды ушли даже из плацкартных вагонов РЖД и со столов скучающих девиц, оставшись уделом немногочисленных профессиональных игроков в покер, карточные расклады Немухина, пожалуй, требуют особого пояснения.
С одной стороны, карты – это выразители случайности Судьбы. Как игроки в «штосс» из «Пиковой даме» Пушкина, которые играли не друг с другом, но с Судьбой, просто раскладывая карты из колоды справа и слева. Когда открывалась загаданная карта, победа игрока зависела от того, по какую сторону от банкомёта она легла. Если слева – выигрывал игрок, справа – банкомёт.
С Судьбой играли и поэты. Дадаисты писали стихи, вытаскивая по слову из шляпы, а композитор Джон Кейдж определял последовательность фрагментов в своих произведениях с помощью «Книги перемен». Фаталист же Немухин стал зашифровывать послания в карточных комбинациях, прочесть которые могли только любители пасьянсов.
– Карты интригуют, я поэтому люблю их ставить, – рассказывал художник в одном из интервью. – Но это предмет сложный и скользкий. Здесь очень тонка грань между искусством и пошлостью. Карты всегда ассоциируются со вспышкой азарта и часто сопровождают уголовников. Я стараюсь удержать эту тему в искусстве.
– А сами вы играть в них любите? – спросил журналист.
– Не играю и, более того, считаю это делом отвратительным и банальным.
* * *
В 1960 году посёлок Лианозово официально вошёл в состав Москвы и иностранцы получили возможность посещать его без специального разрешения. В Лианозово начинают съезжаться иностранные консулы, журналисты и арт-дилеры.
И в «Московском комсомольце» выходит разгромная статья «Жрецы „Помойки №8”» о «Лианозовской группе» – так сами журналисты окрестили последователей и друзей Рабина.
«Однажды я очутился на дому у художника Оскара Рабина, – писал репортёр. – И то, чему я стал свидетелем, то, что пришлось мне увидеть, настолько меня ошеломило, что я ещё долго не мог прийти в себя. Я убедился, что все эти люди – Анатолий Иванов, Игорь Шибачев, Оскар Рабин и другие – никакого отношения к нашему советскому искусству не имеют и не могут иметь. То, что ими превозносилось, оказалось гнуснейшей пачкотнёй наихудшего абстракционистического толка. Не говоря уже о том, что “произведения” Рабина вызывают настоящее физическое отвращение, сама тематика их – признак его духовной убогости. Как самое лучшее “творение” он выдаёт свою, с позволения сказать, работу “Помойка №8”. Судите сами, как широк кругозор этого отщепенца! Но вот “приятели” мои обо всём этом и о самом Рабине мнения иного. Только тут, в гостях у него, я понял, что вся эта группка молодых людей – духовные стиляги, пустые, оторванные от жизни, наносящие вред нашему обществу…»
Оскар Рабин вспоминал:
– После появления статьи мы ждали репрессий. Могли выгнать из художественного комбината, могли выселить из барака или вообще выслать за сотый километр: расправились же позже с «тунеядцем» Бродским и с диссидентом Амальриком… Но жизнь шла своим чередом. Меня предупредили, не более того… И страхи постепенно забылись.
А вот как о внимании со стороны властей рассказывал сам Владимир Немухин:
– Евгений Кропивницкий – единственный в те годы из всех «лианозовцев» член Союза художников – был исключён из МОСХа именно за организацию «Лианозовской группы». Это произошло сразу же после разгрома Хрущёвым юбилейной выставки в Манеже. Кропивницкий, состоявший в членах МОСХ с момента её основания, вначале очень расстроился и, надеясь, что это недоразумение, написал руководству письмо, в котором говорил, что никакой «Лианозовской группы» не существует, а в посёлке Лианозово живёт его дочь, художница Валентина Кропивницкая, её муж Оскар Рабин и ещё внучка. В МОСХе письмо это ждали, полагая, что это будет стандартное «чистосердечное раскаяние». Но не получилось, да к тому же эта приписка «и ещё внучка». Вот они и взъелись.
В МОСХе Кропивницкого подвергли настоящему допросу. Один из критиков язвительно спросил: «А как вы относитесь к Пикассо?». После восторженного отзыва Кропивницкого начался настоящий шабаш: ату его, ему Пикассо нравится! Он абстракционист! Вон из Союза!
Евгений Леонидович встал, поклонился и под всеобщее улюлюканье вышел из кабинета.
* * *
Затем взялись за Оскара Рабина.
Немухин вспоминал:
– На пороге его квартиры еженедельно появлялись люди в штатском и показывали повестку о том, что нужно срочно явиться в отделение милиции. Оскар следовал в районное отделение, но начальника не было на месте.
Часа два художник ждал главного, однако последний не появлялся, и Рабин возвращался домой для того, чтобы через некоторое время вновь услышать знакомый звонок в дверь и увидеть на пороге людей в гражданской одежде, требующих немедленной экскурсии в отделение.
«Но ведь я только что был там и никто не хотел со мной разговаривать…» – недоумевал Рабин. «Вы должны идти, если откажетесь, то мы поведём вас силой», – отвечали гости. Художник отправлялся в участок, но начальства вновь не оказывалось на месте, и подобная история повторялась несколько раз в неделю на протяжении года…
Уставший Рабин навестил Немухина дома, а тот и предложил письменно обратиться к мировой общественности.
– И ты подпишешь письмо? – с сомнением спросил Рабин.
– Да, подпишу.
– Но это пять лет тюрьмы и три года ссылки или наоборот…
Немухину садиться в тюрьму, естественно, не хотелось, тем более что у художника в то время только что родилась дочь. И тогда Рабин неожиданно предложил другой план – выставку на открытом воздухе!
Как когда-то художники-передвижники пошли против монопольного права чиновников от искусства проводить выставки, так и сейчас художники решили устроить свою передвижную выставку – на безлюдном пустыре у леса, где живописцы уж точно не могли «помешать общественности».
Действовать решили открыто, и группа художников отправилась в Mоссовет, чтобы официально уведомить власть о своих планах.
– Меня удивило то, что в кабинете на нас никто не кричал, не стучал кулаком по столу, но нам как-то странно «не советовали» претворять наш замысел в жизнь, – вспоминал Немухин.
* * *
15 сентября 1974 года – именно в этот день открылась выставка, получившая в западной прессе название «Бульдозерной».
Уже на подступах к пустырю художники увидели милицию, грузовики с саженцами, поливальные машины и бульдозеры. Причём в каждой машине рядом с водителем сидел неприметный человек «в штатском».
Немухин вспоминал:
– По пути к пустырю за нами уже активно следили и открыто фотографировали. Mне преградили дорогу молодые люди спортивного вида, которые сказали: «Дальше не пойдёшь или мы сожжём твои картины, а Юре Жарких в этот момент уже выкручивали руки. Я сам протянул одному из молодчиков своё полотно и сказал: «Вперёд, негодяй, у тебя хватит сил и мужества сжигать картины?». Тогда меня оттеснили от нашей группы профессиональными приёмами и отволокли на несколько метров в сторону. Через несколько минут я увидел, как на Рабина, открывавшего свои работы (они были закрыты какой-то полиэтиленовой плёнкой), едет бульдозер, и это было страшно…
Костры всё-таки развели, и в них полетели картины. У западных журналистов, пытавшихся запечатлеть происходящее, вырывали камеры. Потом заработали поливальные машины, и собравшихся начали обливать грязной водой, набранной из луж.
* * *
«Бульдозерная выставка» мгновенно получила получили мировой резонанс. Зарубежные издания писали о возрождении в Москве гитлеровского ритуала сожжения произведений искусства. После внепланового заседания политбюро глава КГБ Андропов поручил секретарю Московского горкома партии Гришину каким-то образом разрулить сложную ситуацию.
Оскар Рабин позже вспоминал:
– Политическая ситуация сыграла в нашу пользу: американский Конгресс тогда рассматривал возможность отмены поправки Джексона–Вэника, и властям не нужны были скандалы. Мы специально подгадали момент и, если честно, не ожидали, что они решатся на такую глупость. Пригнали технику, уничтожили картины, арестовали художников, избили западных корреспондентов. Конечно, если бы нам выбили зубы, до этого никому не было бы дела, мы-то крепостные. Но на Западе «Бульдозерная выставка» наделала много шума, и советские чиновники хотели как можно скорее загладить скандал.
В итоге власти разрешили выставку в Измайловском парке.
– Этот показ был настоящим праздником, какого Москва, может быть, уже и не увидит, – вспоминал Немухин. – Огромное количество людей жаждало прикоснуться к невиданному доселе. Пришли все художники, желавшие выставиться. Нам отвели два часа, и по прошествии этого времени участники выставки организованно свернули свои работы и покинули территорию – никаких провокаций.
Потом при Московском горкоме даже организовали живописную секцию (Грузинская, 28), курировавшую неофициальную живопись, разрешили устроить выставку на ВДНХ – в павильоне «Пчеловодство».
Газета «Вечерняя Москва» ехидно писала: «В одном из павильонов ВДНХ профсоюз художников-графиков организовал просмотр работ двадцати художников, которые называют себя “авангардистами”. Сам факт предоставления павильона свидетельствует о большом внимании, которое оказывается у нас художественному творчеству. Ведь кроме этой “микровыставки” (семьдесят работ) в столице работали и работают десятки других экспозиций, демонстрирующих сотни произведений профессионалов и любителей. Но почему именно эта выставка привлекла внимание прессы капиталистических стран?..»
Также был образован Московский горком художников-графиков – официальный профсоюз неофициальных художников.
* * *
В историю советского искусства Немухин вошёл не только как живописец, но и как коллекционер.
Всё началось с того, что Лидия Мастеркова устроилась на работу в Государственный литературный музей Пушкина, где она стала работать вместе с Феликсом Вишневским – известным московским коллекционером, который владел каким-то невероятным собранием полотен художников XVIII–XIX веков: у него дома были работы Брюллова, Рокотова, Боровиковского, Тропинина, Левитана.
Следом за ним и Немухин с Мастерковой начинают собирать антикварную мебель (Мастеркова её реставрировала), ездят по подмосковным разрушенным церквям, собирают иконы и церковные ткани.
Также Немухин собирал старинные русские прялки и безмены, деревянные куклы, амбарные замки, расписные санки, старинные европейские чайницы, китайские веера, старые курительные трубки, большие булавки для шляп, настольные часы. Некоторые предметы из коллекции переходили из статуса экспонатов в статус арт-объектов.
Но главное – на деньги, полученные от иностранцев, Владимир Немухин покупал работы своих друзей и коллег по цеху. Например, у него на стенах висели произведения Владимира Яковлева, Анатолия Зверева, Дмитрия Плавинского.
* * *
Роман государства с авангардистами продолжался до середины 70-х годов.
В январе 1978-го Оскара Рабина задерживают по обвинению в тунеядстве и сажают под домашний арест – через несколько недель вместе с семьёй его отправили из СССР и лишили советского гражданства.
Владимир Немухин вспоминал:
– Семидесятые годы для меня – это прежде всего непрерывные отъезды друзей-художников на Запад. Первыми из близких людей уехали Целков, Жарких, Мастеркова. Позже – Оскар Рабин, Миша Рогинский. Они уезжали один за другим. Нас, естественно, волновали тогда их возможности, их перспективы как художников. Соответственно, одним из кардинальных вопросов, стоявших тогда перед нами, был «оставаться или уезжать?». Наши говорили: надо уезжать. Иностранцы же предупреждали: «Не уезжайте, сидите здесь! Вам будет очень сложно жить и работать на Западе…». А внутренний зов, порыв выйти из тяжкой атмосферы тех лет был очень силен… И даже жена меня отпускала: «Поезжай, если это тебе нужно». Но у меня была больна мать, и дочь болела, и эти проблемы были непреодолимы. Семья меня держала. И я решил, что нет, не поеду.
Только в 1990 году Владимир Немухин решился на переезд в Германию.
– В стране тогда действительно воцарилась невиданная свобода, во внешних и в общественных её проявлениях, – вспоминал Немухин. – В печати высказывались любые точки зрения: по-другому заговорили писатели, художники, кинематографисты. Открылись границы… Мне позвонил владелец галереи изобразительного искусства в Кёльне Яков Боргеро, предлагая работу в Германии, и я без раздумий согласился.
Конечно, эмиграцией в привычном для советского человека понимании этого слова отъезд Немухина назвать нельзя. К тому же каждое лето художник из Дюссельдорфа возвращался в Россию – в родную деревню Прилуки. А в начале нулевых решил вернуться насовсем – здесь интереснее.
* * *
Владимир Немухин умер в Москве в 2016 году. Ему было 90 лет. После смерти часть его коллекции была передана в музеи.