Священное Писание самой жизни от Бунина
Религиозно-общественная коллизия, связанная с образом и проповедью Льва Толстого, уходит корнями в его интерпретацию христианской веры. Религиозность Толстого, бесспорно, теоцентрична, но принципиально не христоцентрична. В своём символе веры Толстой не только не исповедует Христа как Богочеловека, но и подвергает радикальному отрицанию всё поле христианской культуры – начиная от государства и заканчивая собственным писательским творчеством. В отличие от Фридриха Ницше, звавшего к переоценке ценностей, к их новому воплощению, Лев Толстой зовёт к их обесцениванию, к полному развоплощению. Парадоксом здесь является то, что временами этот призыв подпитывается в известном смысле общехристианским пафосом. Поэтому Толстой своим примером даёт урок не только высокой нравственной устремлённости, вдохновляемой Евангелием, но и практической бесплодности той антимирской идеологии, путями которой призывают шествовать христианские ригористы. Проблема, собственно, в том, что толстовский антикультурный нигилизм вырастает, как объясняет Степун, из попытки русского богоискателя свести всё христианство к «евангельскому законодательству», из прямолинейной неспособности воспринять христианскую веру не как мораль, но как жизнь в Боге, для которой строгое следование заповедям – не сущность, а признак религиозного бытия.
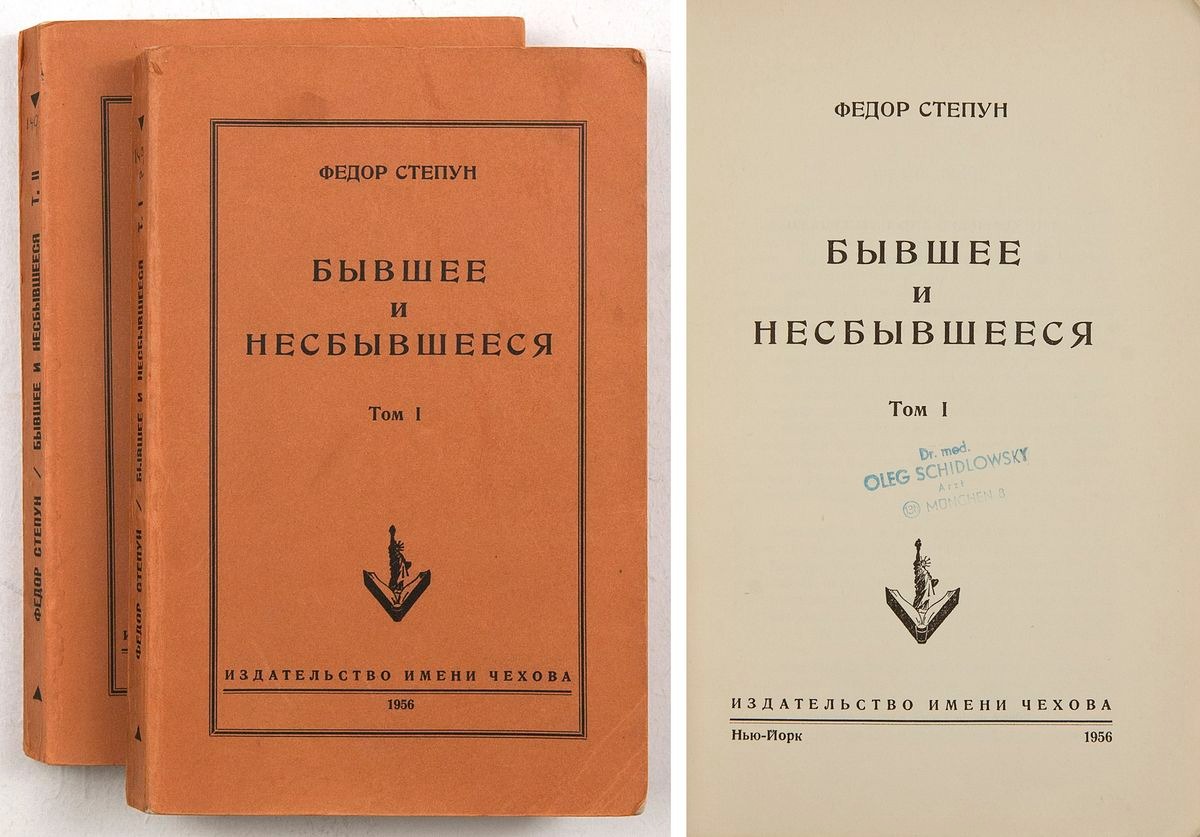 Книга «Бывшее и несбывшееся». Фото: Аукционный Дом "Империя"
Книга «Бывшее и несбывшееся». Фото: Аукционный Дом "Империя"Продолжателями классических традиций русской литературы в послеоктябрьской эмиграции Фёдор Степун называет лично знакомых ему Бориса Зайцева, отмечая его «сверхинтеллигентную духовность», и в самой главной степени – Ивана Бунина, чья проза, по его характеристике, есть «Священное Писание самой жизни». Цельная, углублённая, полновесная, совершенно не эмигрантская, по восприятию Степуна, стилистика Бунина есть как бы покров, накинутый одновременно и над светлой бездной веры в преображение жизни, и над зияющим в ней «кальвинистически-мрачным отчаянием». Степун истолковывает нерв жизненноцентричного бунинского творчества в христиански-аскетическом ключе. Одна из главных бунинских тем есть тема пола и, как пишет Степун, «противотема любви». Пол и любовь – не синонимы, а торжество любви над полом – та заданность, которая крайне редко исполняется в земной жизни человека. Поэтому бунинские «Тёмные аллеи», художественно свидетельствующие об этой трагедии, по слову Степуна, отнюдь не «коллекция эротических ситуаций». Бунин – живописатель половой стихии, которая может быть просветлена, по формуле Степуна, лишь в «оли́чении пола», но которая вместе с тем угрозна для личности своей манящей стихийностью, и эта угроза пола, как более всего явствует из бунинской «Митиной любви», грешна и смертельна, хотя одновременно и музыкальна. Но когда музыка пола смолкает – остаётся лишь смерть.
Иванов, Белый, Блок и «главный волшебник русского модернизма»
Серебряный век, в глазах Степуна, есть не только эпоха подлинных духовных находок, но и время смутных духовных соблазнов. И всё же в большей степени он предпочитает говорить о нём как о периоде благородного духовного напряжения, действительно славного по своим плодам. Вдохновительно само соцветие культурных творцов и интеллектуалов, вместивших себя в этот краткий эон, – по определению Степуна, «членов единой безуставной вольно-философской академии». Живым её символом стал выдающийся поэт-символист и признанный теоретик символизма Вячеслав Иванов – человек, по словам Степуна, абсолютно симпозиональный. Не менее велико значение Андрея Белого, «человека не в точку», нёсшего в себе преизбыточество уходящего XIX века, для которого ещё оставались ценностью «зáмки и храмы всех культур». Что же до Александра Блока, главного поэтического путеводителя «рубежа веков», то его образ для Степуна затемняется слабо колеблемой антихристианственностью и невместимым революционным предпочтением. Не вдохновляясь мотивом христианского обновления, Александр Блок с торжеством приветствовал конец европейской цивилизации, наступающий в натиске революционного варварства, и вполне радушно принимал новых «скифов» – большевиков, провидя за их погромными плечами ангельские крылья. Правда, и для Блока размах «инноваций» новой власти стал вскоре слишком очевиден, проявившись – вместо превышающей всё прежнее культурной масштабности – в максимальном «умении вытравлять быт и уничтожать конкретных людей». Эти слова из дневника Блока, относящиеся к 1918 году, Степун цитирует как момент ниспадения столь вдохновлявшей русского поэта «музыки революции».
Наконец, Борис Пастернак – для Степуна главный волшебник русского модернизма, ещё в ранних стихах «мастер вывихнутого синтаксиса, долгоруких ассоциаций, глубокомысленных невнятностей и сферической музыкальности». Многолетний срок жизни сделал русского философа современником знаменитого пастернаковского романа, в котором его автор остаётся верен своей поэтической музе и предстаёт, по словам Степуна, поэтом христианского пантеизма. Подлинным же художественным явлением роман Пастернака стал потому, что он, после десятилетий идеологической накачки всего культурного пространства, возник в Советском Союзе как текст, внутренняя оптика которого не связана ни с какими идеологическими точками зрения. И в этом смысле «Доктор Живаго» – культурное чудо, подтверждающее для Степуна справедливость его веры в ту Россию, которая не утратила жизни и в условиях коммунистического «миросозерцательного нажима».
 Федор Степун. Фото: Rare Book and Manuscript Library, Yale University
Федор Степун. Фото: Rare Book and Manuscript Library, Yale UniversityЛитераторы партнадзора
Между тем мимо внимания русского философа не прошла и та бьющая литературная новизна, которая хлынула в отечественную словесность в ходе революционного расплава. Новая – советская – Россия и в самом деле породила свою литературу. У этой литературы было, согласно примечаниям Степуна, два истока: идеологически заданное народничество, спровоцированное ещё в царское время Максимом Горьким, и сам по себе революционный сдвиг, в котором взбунтованная Россия стала похожа, по выражению как раз одного из её рабоче-крестьянских живописателей, на русскую баню, вставшую на колёса и поехавшую прочь. Горький – этот, как определил его Степун, «марксист, уязвлённый Ницше» – был человеком замечательного таланта, но ввиду вольно избранного подчинения идеологической схеме возложил своё дарование на «стилистическую вычуру» и после живой автобиографической прозы («Детство») предпочёл написать «дешёвый марксистский плакат» («Мать»). Следуя тому же посылу, советская литература в конце концов сама истребовала для себя идеологического партнадзора и накликала себе, как выразился Степун, «перманентную рентгенизацию», в условиях которой существовала весь советский период. Но в момент триумфа советской власти ещё не все литературные пути оставались закованными и сохранялась возможность неидеологической продукции. Правда, и она представляла собой скорее «сфотографированный ужас», нежели шедевры канона или изыски чистой словесной формы.
По словам Степуна, литература, вызванная к жизни Октябрьской революцией, отмечена «тематической обречённостью»: в выборе своих сюжетов и в языковом орнаменте она целиком привязана к тому лихолетью, благодаря которому возникла. Её герои – сплошь люди, перекошенные, сплющенные и разорванные бешеной революционной событийностью. Будучи перенасыщена «сложными ритмическими взмывами и падениями», она вся тронута, согласно отметкам Степуна, «лирическим растлением». И поэтому в наибольшей мере советская проза 1920-х годов чужда русской классике – в ней нет пейзажной прозрачности Тургенева и Толстого, нет даже полнокровных образов Гоголя и Достоевского, хотя присутствуют гоголевские хари и достоевские люди-идеи. В сочинениях молодого Леонида Леонова, которого Степун считал одним из наиболее перспективных советских прозаиков (увы, не отстоявшим себя и свой талант от идеологического всеискажающего захвата), на месте людей даже запросто оказываются черти. Вообще атмосфера раннесоветской прозы определяется русским философом как «спёртый дух коммунистических идей… и свежий воздух достоевщины и чертовщины». Её тематический интерес, собственно, и раскрывается в том, что в ней, незаметно для её авторов, беспощадно обнажены те крушительные следствия, которыми обернулось для России внедрение коммунистической идейности.
Советская проза 1920-х годов, как пишет Степун, самим своим материалом обнаруживает бездарность воспринятых Россией коммунистических программ, превращение всех коммунистических истин в бессмыслицу при их соприкосновении с русской почвой. В свете такого прочтения Степун довольно ясно предвидел судьбу этой политически лояльной прозы при усилении казённого зажима: почти все наиболее талантливые «попутчики» коммунистов (достаточно назвать Бориса Пильняка и Исаака Бабеля) оказались для них всё-таки не своими, были в конце концов объявлены врагами и подвергнуты резко-уничтожительной цензуре и репрессиям.
 Писатель Исаак Бабель. Фото: jewish-museum.ru
Писатель Исаак Бабель. Фото: jewish-museum.ruОт Чаадаева к Бердяеву
Духовным противовесом этому околосоветскому новаторству, возвышенной областью оздоравливающего трезвомыслия остаётся для Фёдора Степуна традиция русской религиозной философии. Не случайно свою портретную галерею русских мыслителей он начинает с П.Я. Чаадаева, не принимая его далеко идущих отрицаний, но считая полезной для русского ума его «клеймящую чуткость». В ещё большей степени русскому взгляду на себя полезна духовно-мыслительская работа Владимира Соловьёва. Наследников соловьёвского идеализма, подмечает Степун, советская идеократия не случайно считает в своём государстве преступниками: ведь она объявила курс на угашение духа – и всякий, кто свидетельствует перед её лицом духонеугасимость, становится её идеологическим разрушителем. Но Соловьёв для России актуален и в своих политических предостережениях, укорачивающих «патриотизм националистической горячки».
Главным же достоянием русской мысли Степун считает идейный путь от марксизма к идеализму, проложенный некогда составителями сборника «Вехи» – С.Н. Булгаковым, Н.А. Бердяевым, П.Б. Струве, С.Л. Франком. Наиболее важной, с точки зрения Степуна, в этом векторе является его необратимость, то есть не вымышленный «синтез» лево-революционных прописей с евангельскими началами, а достоверное несуществование в новопринятом идеализме «минимальных следов бывшего марксизма». И, словно для образумления нынешних идеологических комбинаторов, всё чаще выставляющих левую идею как благородную сторону истинного православия, Степун подчёркивает, что трансфер из марксизма в религию, проделанный этими авторами, есть не «актуализация православных потенций марксизма, а безоговорочное отрицание его псевдорелигиозной материалистической философии». Главным выразителем означенной линии, которого со Степуном связывало не вполне тесное, но идейно-доброжелательное знакомство, следует, по мнению автора «Встреч», считать Николая Бердяева. Суждение о Бердяеве в первую очередь как о сложном мыслителе выглядит вовсе не тривиально: «Иероглифика его афористически-интуитивных писаний расшифровывается весьма нелегко». Нужно помнить и то, что сам Степун придерживался академического стиля философствования и в области метода изначально был далёк от влиятельного бердяевского «профетизма». Но при конце своей философской биографии он отметил оправданность символической интуитивности, которой пронизаны все бердяевские сочинения: Бердяев, по словам Степуна, всегда будет нужен читателю возведением его на высоты переживания, с которых открывается ландшафт духа.
 Николай Бердяев. Фото: общественное достояние
Николай Бердяев. Фото: общественное достояние***
Глубоко личностные и несхематичные зарисовки Фёдора Степуна не представляют собой просто моментальные снимки и вольные характеристики. Его портретные очерки в основе своей концептуальны и включают достаточное число программных философских пунктов. Совсем не проходными репликами являются почти в каждой его «персональной» статье социологические высказывания о причинах и итогах русской революции, о метаисторическом смысле истории и жизни. Степун всегда говорит как религиозный мыслитель – представитель той плеяды идеалистов, о которой сам он столь много написал ориентирующих страниц. И при этом Степун – совсем не христианский триумфалист: он всегда ищет для исторического христианства подлинно евангельской перспективы, в которой перед церковными христианами раскрывается прежде всего их неисполненная этико-религиозная задача. И потому для Фёдора Степуна «нет сомнения, что господствующее в мире зло надо объяснять прежде всего изменой христианству, – но нет сомнения и в том, что исправиться и преодолеть свои грехи христианство может только в осуществлении подлинной Церкви».
 Федор Августович Степун с женой Натальей Николаевной Степун, 1923 год. Фото: J. Cohn-Archiv / Universität Duisburg-Essen
Федор Августович Степун с женой Натальей Николаевной Степун, 1923 год. Фото: J. Cohn-Archiv / Universität Duisburg-Essen


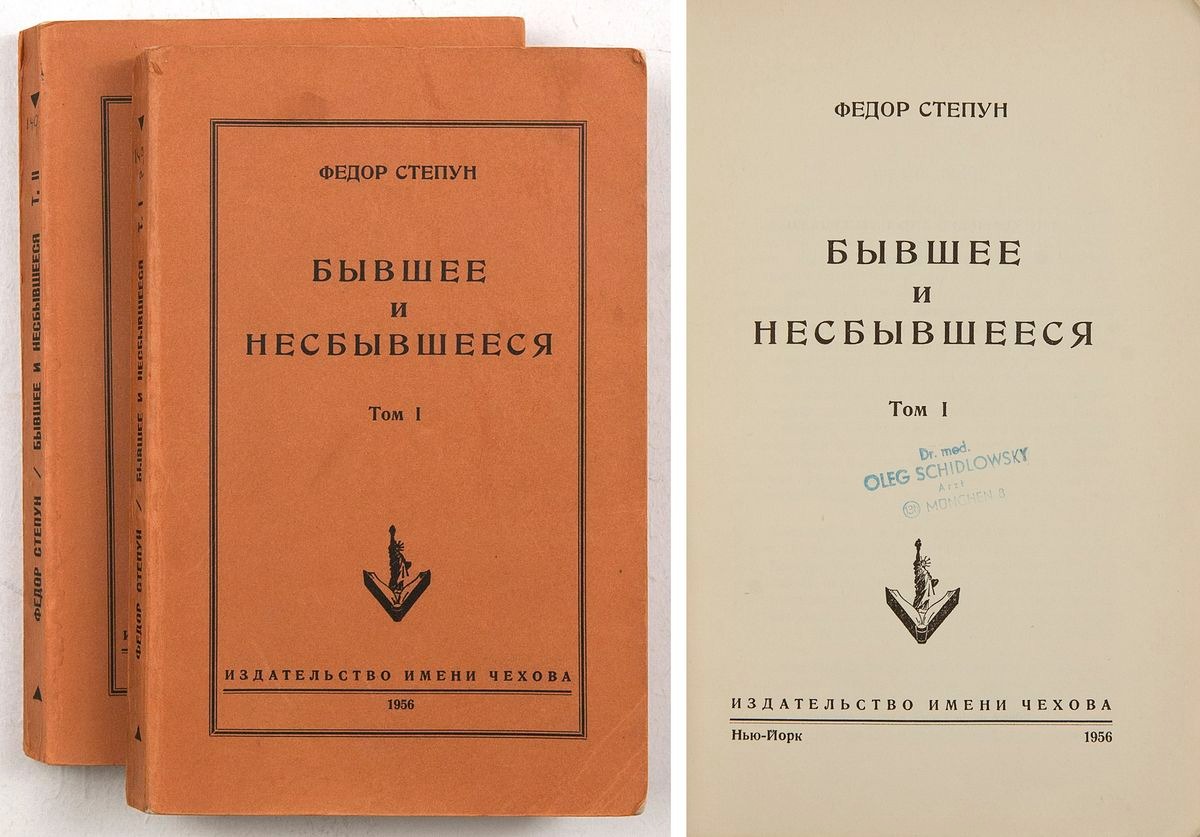 Книга «Бывшее и несбывшееся». Фото: Аукционный Дом "Империя"
Книга «Бывшее и несбывшееся». Фото: Аукционный Дом "Империя" Федор Степун. Фото: Rare Book and Manuscript Library, Yale University
Федор Степун. Фото: Rare Book and Manuscript Library, Yale University Писатель Исаак Бабель. Фото: jewish-museum.ru
Писатель Исаак Бабель. Фото: jewish-museum.ru Николай Бердяев. Фото: общественное достояние
Николай Бердяев. Фото: общественное достояние