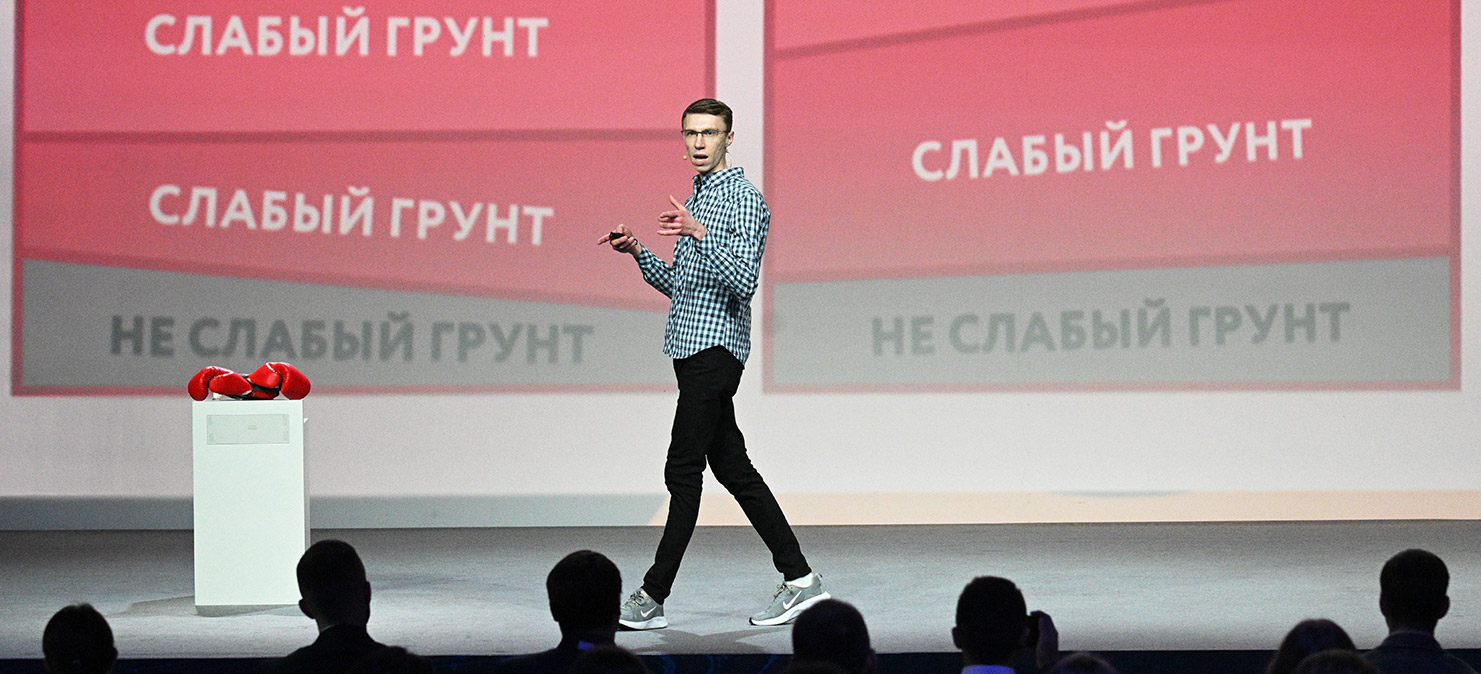– Дмитрий, сказались ли как-то проблемы с вузовскими кадрами на вашем отделе в Российской академии наук?
– Безусловно. Но только надо понимать, что даже если кандидатов и докторов наук будет много, не все они пойдут преподавать. Большинство из них на самом деле не преподают: у меня в отделе порядка 40 человек, из них преподают максимум пятеро.
– Молодёжи много?
– Не так много, но удалось получить дополнительное финансирование под новые кадры и организовать молодёжную лабораторию, которая сейчас активно работает. Мы обеспечиваем присутствие у нас молодёжи за счёт того, что некоторые люди двойную работу выполняют. Современная отечественная научная система держится только на энтузиастах своего дела. Если бы люди стремились только к максимизации своего уровня жизни, то науки бы в России давно не осталось.
– Почему молодёжь не идёт в науку?
– Выдавливание учёных, особенно молодых людей, из науки происходит из-за большого дисбаланса заработка. Квалифицированным людям гораздо выгоднее с материальной точки зрения уйти в программирование, просто пойти обучать нейросеть. Большого порога входа для этого не нужно, дети со школы этим занимаются и дают взрослым сто очков вперёд.
– Уйти в бизнес выгоднее, чем защищать научные работы?
– И кандидатов, и докторов у нас становится меньше, потому что уже с аспирантуры нет действительно сильной мотивации защищать диссертацию – докторскую точно. Она не слишком влияет на материальное положение, и многие считают, что без неё можно спокойно обойтись.
– А была ли когда-нибудь такая мотивация?
 Дмитрий Ермаков. Фото: rshu.ru
Дмитрий Ермаков. Фото: rshu.ru– Сейчас мы готовим монографию по основателю нашего отдела Валентину Семёновичу Эткину. Пришлось поднять материалы, в том числе приказы, распоряжения и документы финансового характера. Я вам могу сказать, что, скажем, в конце той же советской власти 180–200 рублей в месяц считались очень большой зарплатой. Как правило, люди жили на 120–150 рублей. А Валентину Семёновичу, когда он защитил докторскую и возглавил отдел в ИКИ РАН, дали зарплату в 500 рублей. Потом она возросла чуть ли не до 1000 рублей. Это деньги, на которые можно было купить не самый плохой автомобиль. Другое дело, система, к сожалению, долго не продержалась, и даже сам Валентин Семёнович успел застать её конец. Тем не менее для целых поколений людей это было ориентиром. Говорили: иди в науку, а то будешь слесарем у станка ноги себе отхаживать, локти стирать и получать меньшие деньги. А учёный сидит в непыльном кабинете за столом, голову рукой подпёр, думает. А докторскую защитит – вообще царёвой рукой голову будет подпирать. Тогда экономический стимул был очевиден.
– Какие экономические бонусы получает доктор наук сейчас?
– Расскажу реально произошедшую со мной историю. Я отмечал защиту своей докторской в ИРЭ РАН – Институте радиотехники и электроники. И один коллега ко мне повернулся и спросил: «Ощущаешь разницу между кандидатом и доктором?». Мой наставник, один из учителей, ответил: «Конечно, ощущает. Четыре тысячи рублей: надбавка за кандидатскую степень – две, а за докторскую – 6 тысяч. Вот и всё». До сотни тысяч рублей наши зарплаты никогда не доходили, но несколько десятков тысяч было.
– Небогатая жизнь учёных началась со времён перестройки?
– Лет 30 эта проблема точно есть. Ситуация развивалась взрывным путём на излёте Советского Союза. После 1990–1991 года стало ясно, что на финансирование науки бюджета нет. И постепенно стали резать зарплаты, задерживали их на 5–6 месяцев. Люди были вынуждены как-то жить и, естественно, уходили на подработки. Кто-то по совместительству, кто-то насовсем. Торговали в электричках и на рынках, занимались программированием, чем-то ещё, стараясь не терять квалификацию. Многие, кстати, потом вернулись. Так было практически до конца 1990-х годов. Затем – примерно в нулевых годах – ситуация внезапно улучшилась. Прекратились задержки с выплатами зарплат, даже их размер начал потихоньку расти. Наверное, наилучшая ситуация была ориентировочно в 2012–2014 годах. Это были, с моей точки зрения, самые богатые и жирные годы для науки. Потом внезапно ситуация снова начала ухудшаться.
– Почему?
– Если просто фантазировать, то возникает ощущение, что некий экспериментатор сверху решил попробовать некоторые сценарии. Подумал: что-то у нас пробуксовывает наука. Может быть, ей действительно дать больше денег? Дали деньги. А результатов не дождались. Можно обсуждать, по какой причине. Просто ли немного времени прошло. Или эти деньги неправильно осваивались, что можно объяснить. Когда вы голодным бросаете хлеба, на него набрасываются и съедают всё без разбора, без планирования и предположения о результатах. Просто хлеба давно не видели, решили наесться. Так или иначе, но в итоге руль опять крутанули куда-то в другую сторону. Реформа той же РАН, конечно, в среде учёных вызывает критику. Впрочем, и сама РАН в среде учёных вызывает критику, но выплёскивать эту критику наружу до определённой степени даже, наверное, некомпетентно, потому что снаружи довольно трудно судить об этих процессах. Тем не менее Академию наук лишили ряда прав, передали ряд управленческих полномочий в Минобрнауки, приняли ряд спорных решений, в том числе и о том, как выполнять президентские распоряжения по поводу выплаты учёным двойной зарплаты по региону. В общем, начиная где-то с середины 2010-х ситуация с финансовой точки зрения, по моим внутренним ощущениям, ухудшается. И в каком-то смысле это приводит к выдавливанию учёных.
– Они увольняются?
– Иногда выдавливание происходит неявным образом. Не то чтобы люди куда-то уходят, потому что многие из них в таком возрасте, когда это уже тяжело. Но они говорят: «Вы нам платите меньше – мы будем меньше работать. Вы нам не даёте деньги на проекты – значит, эти проекты останутся только на бумаге». И в итоге возникает порочный замкнутый круг. Невозможно предъявить результаты, не получив финансирование. И нет финансирования из-за невозможности предъявить результаты. Наука – это всегда игра вдолгую. У людей, которые дают на её развитие деньги, должны быть, к сожалению, терпение и понимание, что наука не всегда даёт гарантии…
– Потому что это творческий процесс.
– Да, это творческий процесс и отчасти удача. На самом деле сами учёные никогда не планируют, что сегодня, например, актуально исследовать Марс, и поэтому давайте мы все станем марсианами. А Юпитер – только завтра. Если человек любит Венеру, он и будет Венерой заниматься, никто его не убедит, что Марс – главное дело. А дальше уже всё зависит от того, почему вдруг тому или иному бизнесмену или ещё кому-то захотелось вдруг позвать всех, как в фильме «Мы из джаза», чтобы все они оказались случайно в нужном месте. А то до сих пор гуляли бы с дырками в штанах по пляжу где-нибудь в Одессе.
– Что вами двигало, когда вы решили защитить докторскую диссертацию?
– Честно говоря, я просто человек со своеобразным обострённым чувством справедливости. Ещё будучи кандидатом наук, присутствовал на очень многих заседаниях, семинарах, защитах. И я наблюдал, мягко говоря, невыдающиеся докторские, которые защищались по политическим соображениям или внутренним предпочтениям. Например, директором научного института, заведующим крупного отдела, личным секретарём академика хочется видеть доктора наук – значит, надо помочь нужному человеку защитить докторскую. Написать её, подготовить. 15 минут позора – и у тебя степень. Глядя на такие докторские, я понимал, что они будут защищены. И решил: чем я хуже? Эти люди сейчас защитятся и будут смотреть на меня сверху вниз, не понимая внутренней ценности этой докторской работы. Они понимают только медальки, которые у них на груди болтаются. Я помучался немножко с формальностями – и защитил.
– Выходит, проблема нехватки кадров высшей категории ещё глубже, чем отражает исследование. Не всех докторов можно отнести к кадрам высшей компетентности?
– Вообще говоря, да. Другое дело, что современная наша реальность на краткосрочном интервале, может быть, и не требует управленческих кадров высокой научной квалификации. Я сейчас никого не хочу конкретно обидеть, но просто я вижу, в чём сейчас приоритеты. Найти хорошие денежные договоры, установить взаимоотношения, правильно себя позиционировать. Преобразования РАН отражаются на учёных таким образом, что им фактически приходится самим искать себе средства к существованию. И тут им требуются люди с организаторскими и менеджерскими способностями. Обычно люди с узкоспециальными знаниями не умеют выгодно своё научное направление представить и хорошо продать. И отталкивают от себя тем, что, начинают всех подряд критиковать, даже если за дело. Но это палка о двух концах. В краткосрочном интервале, может быть, не сильно ощущается тот факт, что зачастую какие-то подразделения, направления, институты возглавляют не те люди, которые с научной точки зрения являются наивысшими авторитетами в этой области. Тем более что их могут подстраховать те, кто занимают должности советников, координаторов, руководителей научных и так далее.
– А в долгосрочной перспективе?
– Но исторически, как мне кажется, правильнее путь, когда науку возглавляют люди, которые глубоко разбираются в научном содержании их направлений. Именно при таком варианте выбираются наиболее важные дела, даже если они сегодня не соответствуют каким-то лозунгам или не отражают чьи-то узкие интересы. Мудрый, разбирающийся руководитель позволит не мешать учёным делать свой труд, даст этим трудам развиться достаточно в течение долгого времени.
– Можете уточнить период времени?
– За одно-два поколения уже становится понятно. Сейчас мы можем не заметить кризиса кадров, потому что, к сожалению, успешность научных организаций определяется тем, насколько они хорошо умеют добывать дополнительные деньги. Вот они добыли деньги, раздали тем научным сотрудникам, которые реальную работу осуществляют. Сотрудники довольны, никуда не уходят, работают с большей отдачей – и всё хорошо. Но, с другой стороны, всё это напоминает охоту за мелкой рыбёшкой. Постоянное маневрирование, юрканье туда-сюда, улавливание, чего бы где ещё поймать и съесть без стратегической цели. Вот мы идём к звёздам, вот мы идём к вечной молодости. Это всё, конечно, декларируется, но представление о том, как это сделать, на мой взгляд, наверное, мало у кого есть, потому что на это времени не хватает. Надо деньги зарабатывать.
– А коммерческие зарплаты при этом растут.
– Проблема-то даже не в том, что коммерческие зарплаты растут, – это пожалуйста. Но только российская коммерция развивается не в наукоёмких направлениях. Наше общество по-другому организовано, и научные знания не очень востребованы бизнесом. Даже в самых высокотехнологичных на данный момент отраслях, использующих тот же искусственный интеллект, не столько нужно научное знание, сколько обычные технические навыки визуального программирования.
– К чему это приведёт?
– Это уже приводит к тому, что во многих, скажем, институтах РАН средний возраст сотрудников с каждым годом увеличивается практически на год. Многие институты исчезнут, как я понимаю, и это осознанная политика. Расходы на науку решили оптимизировать жёсткой системой эволюционного отбора. Кто сможет доказать свою полезность – выживет. С тактической точки зрения это, может, и эффективное решение, но стратегически идея может оказаться абсолютно провальной. Ведь многие исследования считались неперспективными на протяжении десятков лет, а потом неожиданно выстреливали – как нейросети, между прочим. Их исследование начиналось чуть ли не век назад. И несколько раз за историю они признавались бесперспективными, а потом появлялись новые импульсы и двигали вперёд всё направление. Богатое государство обычно старается свою науку так или иначе кормить в расчёте на перспективу. Даже очень богатые компании по такому принципу инвестируют, вкладывая в 10 проектов, из которых 9 будут бесперспективными. А один выстрелит. Они прекрасно осознают, что сами не решат, какой из этих 10 действительно окажется перспективным. И заранее к этому готовы. Наверное, можно было назвать эти подходы правильными, но, к сожалению, тут надо бороться с недобросовестностью кадров, которые тут же слетаются на сладкое.
– Как повлияет дефицит кадров на образование?
– Возрастной разрыв будет усугубляться. Продвинутые вузы стараются по мере возможности материально стимулировать свой преподавательский состав. Но понятно, что эти усилия рассчитаны только на то, чтобы не оставить совсем без средств существования энтузиастов. Без энтузиазма в образовании и науке ничего не получится, потому что именно такие люди выберут отрасль, где ощущают своё призвание или где им интересно заниматься чем-то более содержательным, чем зарабатывание денег.
– Недостаток высших преподавательских кадров приведёт к конкуренции вузов за профессоров. Это хорошо?
– Это, как всегда в сложных преобразованиях, противоречиво. С одной стороны, плохо, потому что хорошие кадры сконцентрируются в рейтинговых вузах с особым финансированием. С другой стороны, закроются непонятные вузы. Наверное, так и должно быть. Мне кажется, что так было всегда. Люди, которые всерьёз занимаются наукой, ориентируются в вузах и идут преподавать туда, где им интересно. Уважающие себя дети всегда пытались поступить в хорошие университеты.
– И эти вузы сосредоточатся в Москве и Петербурге?
– Такая проблема была и в Советском Союзе: все всегда рвались в Москву и Питер. С другой стороны, сейчас есть мощные научные центры и за пределами этих двух городов: Пермь, Владивосток, Архангельск, Нижний Новгород, Севастополь. А талантливая молодёжь рождается везде. Другое дело, куда она после этого уезжает и где себя находит. Всем хочется быть здоровыми и богатыми и никому не хочется быть бедными и больными. И если у государства средств хватает только на поддержку двух-трёх центров мирового уровня, то они однозначно будут концентрироваться вокруг городов с развитой крупной инфраструктурой. Москва и Питер, конечно, никуда не денутся, а остальные будут существовать по остаточному принципу. Тут какое регулирование ни придумай – вряд ли что-то поможет.
– Существует ли проблема кадров в ВШЭ?
– Я думаю, что в «Вышке» проблем меньше, чем во многих других вузах. Финансово она может себе позволить больше, чем многие другие. Это динамичная система, быстро адаптирующаяся под изменения. С другой стороны, она тоже отдаёт той самой философией охоты на мелкую рыбёшку. Можно создавать и адаптировать разные программы, искать финансирование. Но впечатление такое, что это некое лавирование ради самого процесса. Мы будем выпускать ещё 40 специалистов в год с дипломами высшей квалификации, а какое конкретно знание будут нести эти специалисты – мы и сами не знаем. Сегодня оно такое, завтра – другое, послезавтра – ещё какое-то третье. В этом смысле хаотичность наблюдается. Нет, понимаете, духа образования как некой высшей цели. С другой стороны, географический факультет, на котором я работаю, действительно очень динамичен, там много молодых увлечённых преподавателей. И система экономического стимулирования, которая характерна и для научно-исследовательских институтов, и для образовательных институтов, состоит в том, что у вас есть очень небольшой базовый гарантированный оклад и премии за заслуги. Причём в каждом случае организация сама решает, что является заслугами и что наиболее приоритетно. И тут не последнюю роль играет способ отчётности. За что организация получит дополнительное финансирование – за то она и раздаст награду своим преподавателям, ведь именно они улучшили какие-то показатели: публикации, подготовка кадров, проведение специальных мероприятий и так далее.
– Что разрушает эта формализация?
– Она не то чтобы, наверное, разрушает – скорее вынуждает идти на некие компромиссы с самим собой и развивать в себе определённого рода шизофрению. Высшая цель – передать то лучшее, что есть в тебе самом, следующему поколению – наталкивается на необходимость параллельно вести политические игры, выискивать источники дополнительного финансирования. В общем, совершать кучу неинтересной работы, которая не полезна ни для чего, кроме тактической цели обеспечения средствами. И, по большому счёту, она никому не нужна. Это перемалывание воды в ступе. Тем не менее это некий необходимый уже, можно сказать, ритуал, без которого невозможно вообще существование сложноорганизованной системы. Люди, находящиеся в управлении учебных организаций и научных процессов, вынуждены этому следовать, что отнимает очень много времени и сил. Так что обвинения к ним были бы несправедливы. Они тоже хотят достичь благородных целей. Я вижу того же декана нашего факультета. Он очень увлечённый довольно молодой человек, который пытается выстроить новый факультет (факультету всего четыре года). Сделать его полностью жизнеспособным, самодостаточным, развивающимся – это очень тяжёлая задача. Её приходится практически в одиночку решать человеку, который думает об учебных планах, чем платить преподавателям, как набрать хороших студентов, о куче всяких отчётностей, с нашей точки зрения, абсолютно маразматичных, бессмысленных, дублирующихся. В общем, складывается ощущение, что на учёных, как на крайних, пытаются переложить функции и задачи, которые должны решать люди, получающие за это гораздо более хорошее вознаграждение.
– От этого страдает качество преподавателей?
– Мне кажется, что хорошего преподавателя трудно заставить преподавать плохо: это противоречит его моральным установкам. А плохого невозможно заставить работать хорошо. Человеку, взятому отдельно от какой бы то ни было системы, нужно не очень много. Чтобы его любили, уважали, достойно оплачивали труд и чтобы этот труд был востребован. И тогда неважно, социализм на дворе, капитализм, коммунизм… Системы определяют условия, но человеку не так важно, за счёт чего эти условия сформировались. Я отнюдь не сторонник точки зрения, что в Советском Союзе всё было хорошо, а при капитализме всё плохо, но исторические процессы идут так, что после любой революции на поверхность всплывает пена. И в этих мутных условиях люди беспринципные, не имеющие высоких светлых целей в голове, конечно, устраивались лучше. И дальше это неравенство в рыночной системе только усугублялось. В результате мы пришли к тому, что имеем сейчас. В общем-то богатое государство с трудом себе может позволить хоть как-то содержать науку.
– Могут ли в этом естественном отборе исчезнуть непонятные вузы и научные организации?
– На любой системе, имеющей сложные законы финансирования, можно построить паразитические структуры. От этого избавиться тяжело. С другой стороны, государство по сути не бизнесмен. И не цель государства, скажем, что-то оптимизировать, максимизируя прибыль. В отличие от компаний, товариществ или клубов по интересам, у государства есть стратегическая цель существовать вечно. И с этой точки зрения совершенно необходима воспроизводимость более или менее нормальных, адекватных сограждан, которые на каком-то историческом промежутке времени показали бы конкурентоспособность гражданам других стран. И с этой точки зрения, может быть, имеет смысл давать образование всем, кто по каким-то причинам стремится его получить, в том числе и высшее образование. Есть куча социальных программ, направленных на поддержку пенсионеров, инвалидов, участников СВО и так далее. Почему бы не поддерживать и малообеспеченную молодёжь, которая хочет учиться? Ведь на данный момент молодые люди не рвутся в науку, потому что их невозможно убедить, что там они смогут чувствовать себя так же комфортно, как где-то в других областях.
– Заменят ли учёных искусственный интеллект и электронные технологии?
– Искусственный интеллект может заменить всё. Но я думаю, последнее, что он заменит, – учёных. Без учёных невозможен прогресс в методах обучения, в резком ускорении и расширении возможностей того же искусственного интеллекта. Чтобы создать что-то новое, нужно думать. Может быть, очередной шаг эволюции и состоит в том, чтобы наши когнитивные способности перенести на агрегаты, устойчивые к погодным условиям, отсутствию ресурсов... Это будут железяки, думающие примерно как мы, но не умирающие от старости через несколько десятков или сотен лет. Кто его знает?