Вот так и не меньше – «одной из самых загадочных и влиятельных держав мира». Для читателей «Стола» замечу, что в своей книге «Россия в зеркале» (La Russia allo specchio) я просто несколько расширил наши с вами рассуждения о РФ и Европе, адаптировав их для итальянского читателя. Книга не рассчитана на широкую публику – напротив, она для итальянцев, смело отказавшихся от «западного мейнстрима», но, к сожалению, зачастую легко поддающихся другим, якобы альтернативным, дискурсам. Одна из ошибок нашего времени, связанная с необходимостью всегда иметь на своей стороне массы, заключается в убеждении, что достаточно отвергнуть ошибочную картину мира и действовать иначе, чтобы сразу изменить ситуацию, таким образом достигая лучшего результата. Иногда, чтобы какая-то теория была немедленно поддержана, достаточно представить её как альтернативную. Однако без реализма любые благие намерения обречены на провал.
Основные мои тезисы сводятся к следующим: 1) Россия – европейская страна; 2) даже вынося за скобки экономическое, политическое и военное противостояние, ныне трудно осуществить проект Большой Европы на основе общих классических христианских ценностей; 3) процессы секуляризации в Западной Европе и России отличаются (с революции и поныне); 4) РФ во многом сохраняет советские черты; 5) российское консервативное идейное поле (даже правое) пропитано советизмом; 6) Европа в глубочайшем кризисе, охвачена американизацией; 7) Европа даже не осознаёт, чем её собственная культура отличается от американской; 8) РФ и Европа сейчас концептуально ничем не различаются, что «негативным образом» свидетельствует о принадлежности русского мира к европейскому; 9) «Советский Союз – не Россия»; 10) социализм и либерализм – весьма близкие идеологии; 11) сегодня «настоящие белые» – это умеренные консерваторы.
 Фото: Киселев Сергей / Агентство «Москва»
Фото: Киселев Сергей / Агентство «Москва»В книге я приводил и переводил, к сожалению, пока что малоизученные или совсем неизвестные работы досточтимых С.В. Волкова, А.И. Любжина и, говоря уже о «классиках», И.А. Ильина.
И ниже предлагаю на суд читателей «Стола» перевод одного её отрывка, посвящённого ситуации в Русской православной церкви.
«В западных СМИ некритично принимается образ РПЦ, разработанный и пропагандируемый теми, кто тоскует по советскому прошлому, – красно-коричневыми, а также евразийцами. Ссылаясь на специфику отношений между государством и церковью в российской традиции, многие наши [итальянские, западные. – Ред.] аналитики и журналисты принимают материалистическую идею, согласно которой отношения между этими двумя институтами должны пониматься в смысле преобладания одного над другим, разумеется, первого над вторым. По этой причине союз между государством и церковью имеет отрицательную коннотацию.
На самом деле вопрос гораздо более сложен.
Уровень анализа, только что выделенный, не должен быть полностью отвергнут, но явление следует рассматривать с более широкой и менее упрощённой точки зрения. После Второго Ватиканского собора на Западе усилилась интерпретация, согласно которой внутренняя диалектика Католической церкви состоит из фракций, таких как “традиционалисты” (вечные враги “второватиканского” наследия), “прогрессисты” (сторонники тех же реформ) и “консерваторы” (не принадлежащие ни к одному из этих крайних станов). Независимо от правдивости этой точки зрения, стоит отметить, что похожие “категории” используются СМИ для анализа поведения РПЦ.


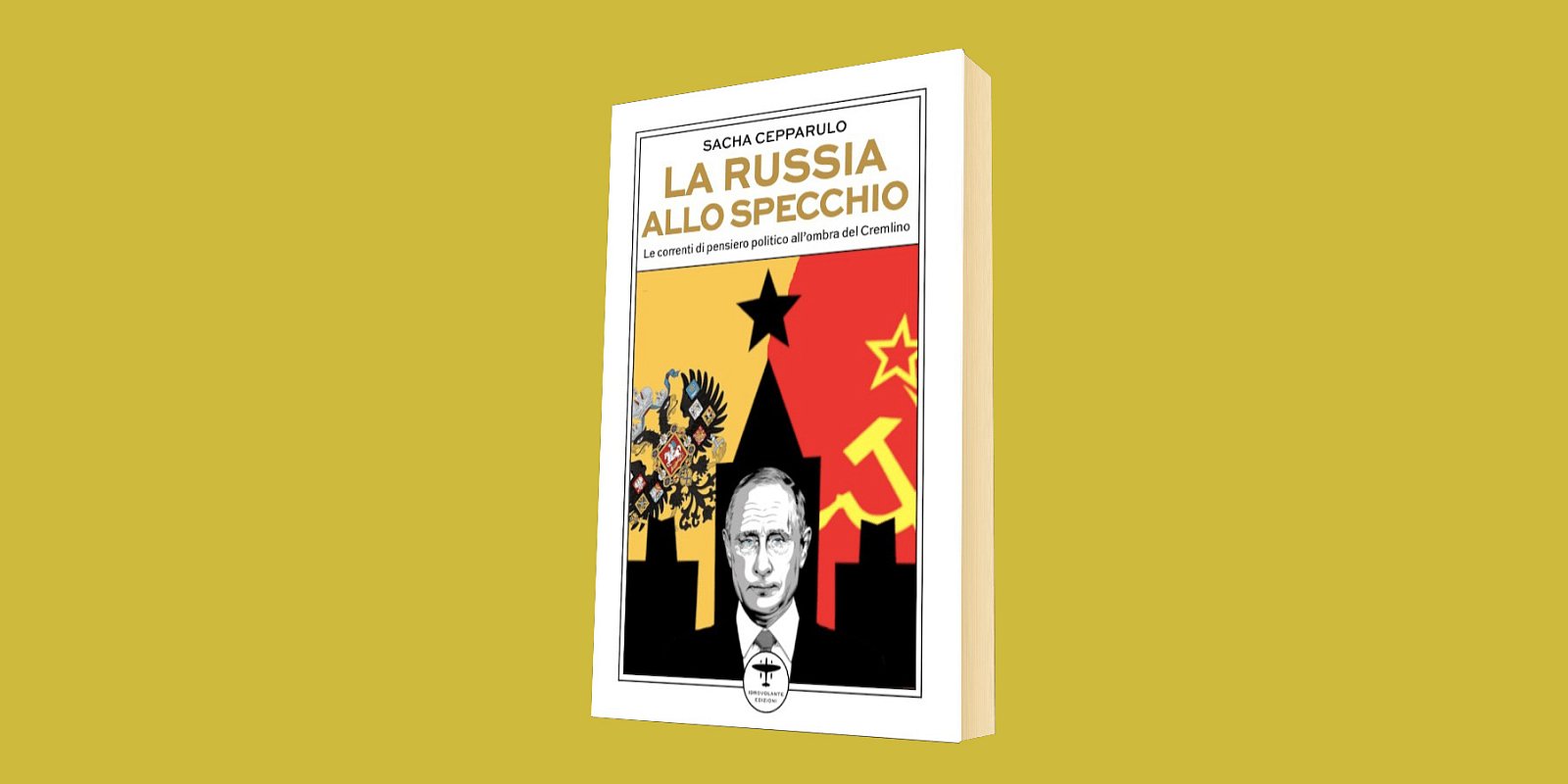
 Фото: Киселев Сергей / Агентство «Москва»
Фото: Киселев Сергей / Агентство «Москва»