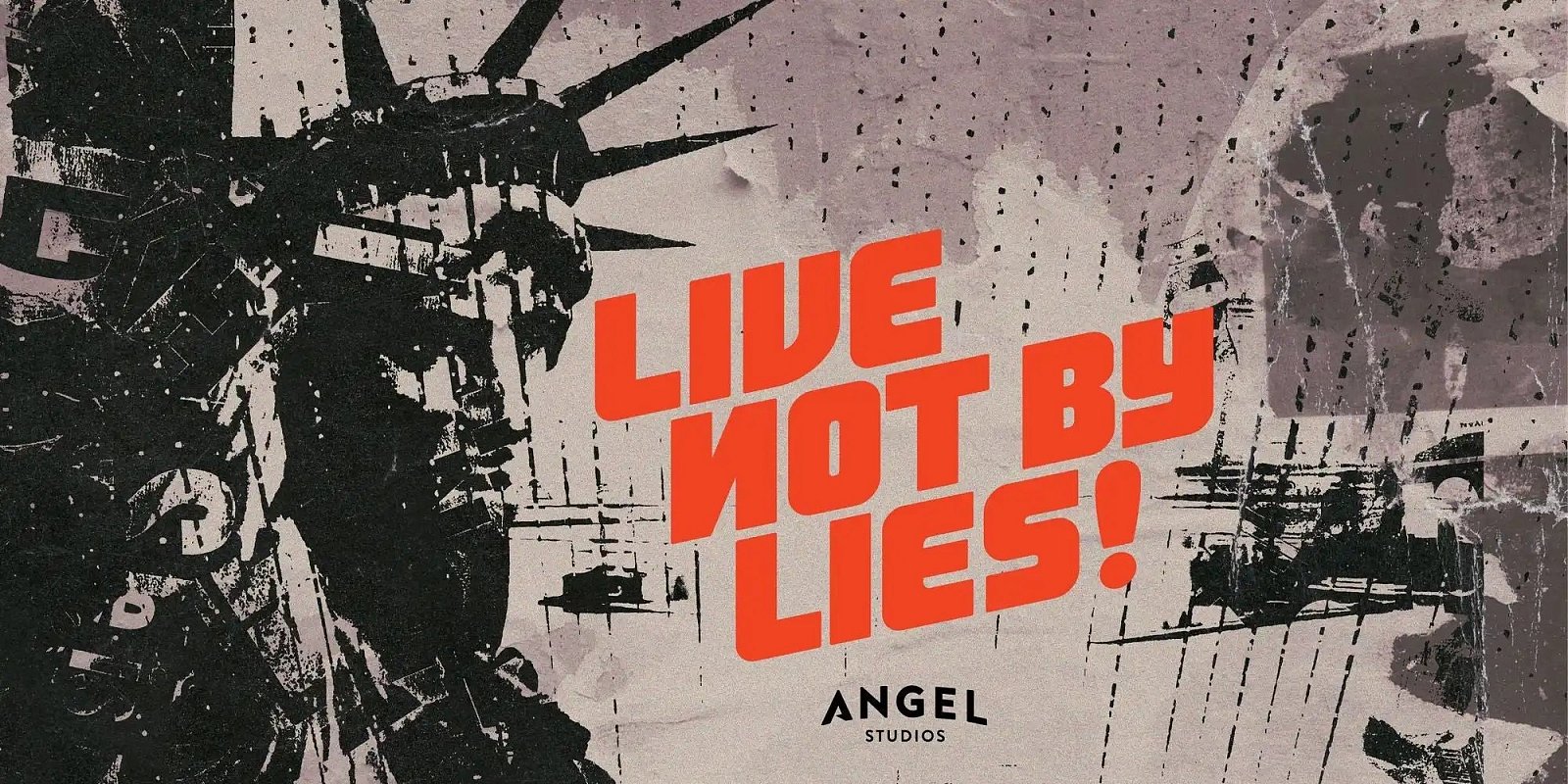Пятьдесят лет назад устами Солженицына западный мир обвинял Советский Союз в тоталитаризме и нарушении свободы слова. Теперь, в 2025 году, администрация Трампа снова использует светлый образ Александра Исаевича – но уже для обличения союза Европейского. И попутно радует слух российской аудитории.
Вице-президент США Дж.Д. Вэнс, выступая на премьере картины, снятой по книге известного американского консервативного журналиста Рода Дреера «Жить не по лжи. Пособие для христианских диссидентов» (2020), объясняет актуальность картины текущими событиями: «Понимаете, в Европе людей арестовывают за молитвы, а полиция спрашивает их: “Ну о чём вы молитесь?” – как будто это какое-то дело полиции. Да, вы видите людей, которых бросают в тюрьму или увольняют с работы, потому что они не верят в правильные вещи или не говорят правильные вещи...» В фильме, соответственно, представлены воспоминания христианских диссидентов советских времён как из СССР, так и из стран бывшего соцлагеря (из российских героев – протоиерей Кирилл Каледа, сын священника-диссидента Глеба Каледы, баптистский пастор Юрий Сипко, писатель Евгений Водолазкин). Повествование построено на явных и скрытых цитатах из Ханны Арендт. Центральная мысль: современная «левацкая» идеология с её атакой на институт семьи и традиционные религии и воук-культурой убивает общество, современная Европа живёт в условиях «мягкого тоталитаризма» («soft totalitarianism»), который, если его не остановить, вполне может трансформироваться и в «жёсткий». Очевидно, что основная аудитория картины при этом не в Западной Европе. С одной стороны, это электорат Трампа, с другой – электорат Путина (которые в чём-то схожи между собой).
 Кевин Робертс, Джефф Хармон, Род Дреер и Дж. Д. Вэнс. Фото: roddreher.substack.com
Кевин Робертс, Джефф Хармон, Род Дреер и Дж. Д. Вэнс. Фото: roddreher.substack.comСама книга, по которой снят фильм, была частью ещё предыдущей избирательной кампании Трампа. Уже тогда Род Дреер подчёркивал, что американский народ – вовсе не такой, каким его рисуют демократические власти и их окружение: «Американские элиты заперты в эпистемологическом пузыре. Эти люди не понимают свою страну, они боятся и ненавидят её одновременно». «Примечательно, – заметил Дреер, – что и на вторых выборах подряд опросы серьёзно ошибались. Почему? Просто потому, что граждане США не решаются признаться социологам, что они планируют голосовать за Трампа. Они опасаются передавать компрометирующую информацию незнакомцам. Они видели, как левые работают в университетах, в СМИ и на предприятиях, и они знают, что если они выйдут за пределы, обозначенные идеологией “политики идентичности” левых, они могут пострадать и даже потерять работу. Левые распространили по всей стране атмосферу запугивания, мало чем отличающуюся от тоталитаризма, – и всё это во имя чистоты и “социальной справедливости”». Выход, как показывает Дреер, – поддерживать всеми силами то, на что опирается сегодня трампизм в Америке: консервативные религиозные общины и христианские семьи.
Касательно российской аудитории, то, что делают Дреер и его коллектив, – безусловно, также высокопрофессиональная политико-идеологическая работа. Потому что авторы прекрасно отрефлексировали дуализм сознания современной российской элиты и вообще образованного населения «in the postcommunist lands», которое непостижимым образом сочетает в себе либеральное и консервативное начало, западничество и антизападничество, мечтательность и готовность к работе и самопожертвованию. И которое по-настоящему давно никто не хвалил. И в этом свежее ноу-хау политики Трампа по сравнению с политикой Рейгана: не обличать «империю зла», а хвалить её, восхищаться ею (как говорит герой «Джентльменов удачи», «вежливость – лучшее оружие вора»?).
 Александр Солженицын, 1994 год. Фото: архив Юрия Абрамочкина / russiainphoto.ru
Александр Солженицын, 1994 год. Фото: архив Юрия Абрамочкина / russiainphoto.ruС одной стороны, Дреер и его коллеги оценили, что бывшие советские граждане – это люди, которые знают цену свободе. Прежде всего свободе совести (политическое измерение в котором вовсе не главное). Они удивительно тонко смогли словить раннее «шмемановское» восприятие Солженицына, которое и по сей день так воодушевляет умеренно-либеральную российскую интеллигенцию, не желающую возвращаться в СССР, в эпоху «руководящей и направляющей» роли КПСС, очередей, запретов и гонений на церковь. Это то понимание проповеди Солженицына как проповеди той самой христианской свободы, которая происходит от «и познаете истину». Это свобода «высшая», а не политическая. По выражению протоиерея Александра Шмемана, Солженицын был свободен «не от советской действительности, а в самой советской действительности», а его понимание христианства было свободно от всех «политических, социальных, расовых и националистических редукций». Поздняя критическая оценка Шмеманом Солженицына как несомненного продукта тоталитарной советской эпохи, как «анти-Ленина», в своей заидеологизированности, в гиперкритицизме в отношении Русской церкви, ставшего почти что «Лениным по духу», американскими авторами при этом сознательно игнорируется. Солженицын-герой, Солженицын – свободная личность в варианте «Жить не по лжи» – выводится ими на первый план, тогда как Солженицын-приспособленец в варианте «Письма из Америки» намеренно ретушируется.
С другой стороны, авторы затрагивают консервативные струны русской души. Сам по себе брутальный бородатый американец Дреер, сознательно принявший православие и цитирующий Достоевского и Серафима Саровского, – образ, как будто нарочно созданный для нарождающейся традиционалистской российской аудитории, для сообщества ветеранов СВО, которым после украинского опыта сложно видеть в Америке и американцах хоть что-то позитивное. Поворот Америки «к свету», «к традиционным ценностям», казалось бы, не может не радовать. Кому-то здесь даже видится грядущий разворот США в сторону России. В конце концов, во Вторую мировую наши страны уже были союзниками. Вэнс и Дреер ведут именно к этому: если в Европе – «новый тоталитаризм», практически фашизм, то Россия и США должны стать плечом к плечу за свободу и христианство (и забыть, «яко не бывшую», всю украинскую историю?).
 Встреча на Эльбе, русские и американские солдаты. Фото: Государственное бюджетное учреждение культуры Ставропольского края "Георгиевский историко-краеведческий музей / Государственный каталог Музейного фонда РФ
Встреча на Эльбе, русские и американские солдаты. Фото: Государственное бюджетное учреждение культуры Ставропольского края "Георгиевский историко-краеведческий музей / Государственный каталог Музейного фонда РФОбъективно восторг соотечественников от творчества Дреера и речей Вэнса является частью такого свежего феномена современной российской жизни, как трампофилия, который едва ли возник стихийно. Растущие симпатии российских элит, прежде всего интеллектуальных, к Америке и Трампу, и к американскому «антивокизму», – результат профессиональной научной и идеологической работы, которая в США ведётся десятилетиями. За плечами у трампистов мощный бэкграунд в лице американской советологии, которая, возможно, знает о России и русских больше, чем мы сами. В период 1950–1980-х годов в США защищались десятки и сотни диссертаций, посвящённых русской культуре и русскому менталитету. Каждый закоулок «загадочной русской души» был изучен и проанализирован «советологами». Важно понимать, что американская советология существовала не как автономная область науки, а как «верный союзник военно-промышленного комплекса» (соответственно, финансировали её прежде всего корпорации, производящие вооружение). Советологические центры оставили после себя богатое наследие не только в плане науки, но и в плане пропаганды, которое неожиданно при Трампе оказалось вновь востребованным. Изменились лишь акценты: если при Рейгане главной «империей зла» был СССР, то сегодня основная мишень – это уже Китайская Республика, а России достаётся «по касательной». Соответственно, «угроза слева», о которой говорит Дреер, – это прежде всего Китай, а во вторую очередь – внутренние американские «леваки», которые, маскируясь под либералов, действительно стали взрывать западный мир изнутри.
Новшество трампизма в том, что он действует по принципу: «Если революцию нельзя предотвратить, нужно еë возглавить». Соответственно, в плане противостояния с РФ Америка при Трампе пытается замкнуть на себя те идеологические темы, которые раньше считались принадлежащими России, – в первую очередь всё , что связано с защитой традиционных ценностей. К ним же добавляется и православие, которое всегда считалось «силой России». Поэтому вместо фронтальной борьбы с православием пришло время его публичной апологии. Православие в современной американской прессе всё чаще описывается как традиционная консервативная «мужская» религия – в противоположность чересчур эмоциональным и «феминизированным» протестантским течениям (яркий пример – репортаж в NYPost о растущей популярности православия среди американской молодёжи).
 Монастырь Святого Тихона в Пенсильвании. Фото: Violette79 / Flickr
Монастырь Святого Тихона в Пенсильвании. Фото: Violette79 / FlickrРоссийским мужчинам традиционной ориентации, ценящим православие и уважающим семейные ценности, безусловно льстит, что «Америка теперь хочет быть похожей на нас». Что вот теперь «они осознали правду». Портреты русского классика, каким, безусловно, уже стал Александр Исаевич, и явно выглядящие как русофильские в современном контексте рекламные плакаты в стиле «Окон РОСТА», кажется, вызывают у нас искренний восторг. А поскольку в каждом среднем российском консерваторе сидит также скрытый православный либерал, то нам, в конце концов, просто приятно чувствовать, что «Америка снова с нами».
Впрочем, важно понимать, что слова американской печати о достоинствах православия и преимуществах преподобного Серафима Саровского для воспитания молодёжи – это, по сути, те же речи, которые обращала лисица к вороне в басне у Ивана Андреевича Крылова: «Какие пёрышки! какой носок! И, верно, ангельский быть должен голосок!» А для зазевавшихся ворон итог всегда оказывается один: «Сыр выпал – с ним была плутовка такова».