Много раз об этом доводилось беседовать как в публичных, так в частных разговорах на тему сосредоточения всего и вся в немногом: укрупнения путём поглощений и слияний университетов, объединения фондов, сосредоточения подготовки по каким-то темам ровно в одном месте и т.д. и т.п. И часто меня удивляла реакция высокообразованных собеседников – мол, всё к лучшему, так и надо, всё во благо.
То есть позицию эту, сразу же оговорю, вполне понимаю, но почитаю либо близоруко-краткосрочной, либо просто эгоистичной – по крайней мере во всём, что связано с производством знания, ну а что в нашем мире не связано с ним?
Сокращающееся разнообразие местного, не столичного, знания тем плохо, помимо прочего, а на мой взгляд, и в главную очередь, что сужает разнообразие самих возможностей.
То есть текущая политика нашей власти (здесь, впрочем, нужно оговориться, что политика эта не специфична ни во времени, ни в пространстве – и разговор о наших делах связан лишь с тем, что они и заботят в первую очередь, о прочем много есть кому другому позаботиться) – так вот, политика эта в виде сосредоточения всего и вся в немногом, построенная по принципу: все гранты передадим РНФ, незачем это многообразие фондов, или, беря пример из другой области, – создадим одну контору, сольём всё в ОАК – понятный принцип на коротком сроке.
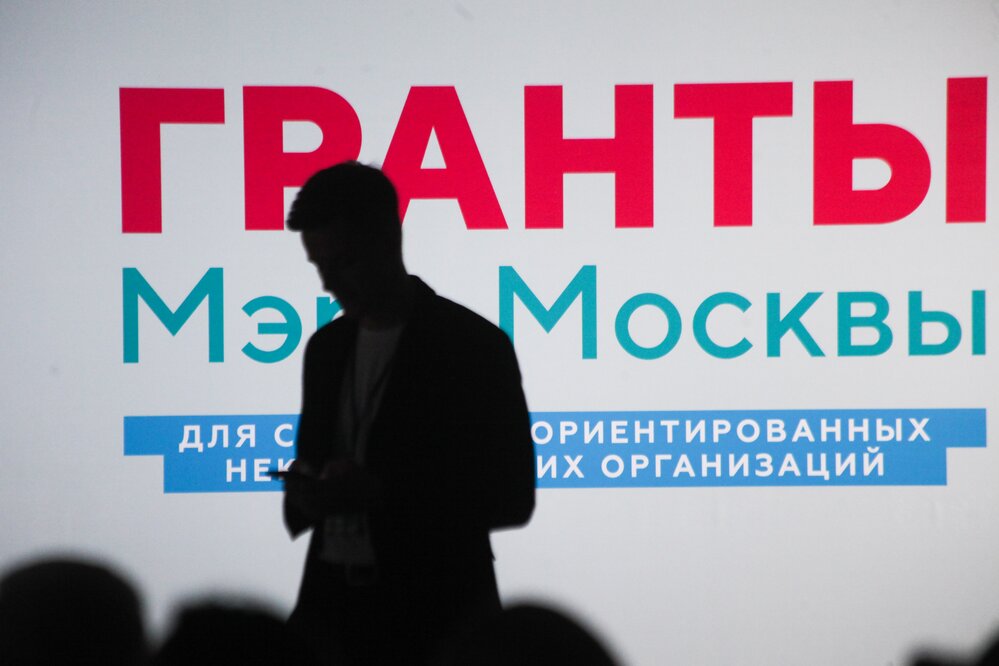 Фото: Ведяшкин Сергей / Агентство «Москва»
Фото: Ведяшкин Сергей / Агентство «Москва»Это логика приходящего нового менеджера, призванного «оптимизировать», антикризисного управленца или предпродажной подготовки. Принцип её прост: давайте устраним дублирование, зачем у нас самолёты разрабатывают и Ил, и Ту, и Як – наследие памятных авиаконструкторов? К чему многообразие фондов, дающих гранты по пересекающимся темам и предметам? Зачем в одном городе, пусть и большом, пять вузов, готовящих во многом по одним и тем же специальностям? И к чему вообще несколько небольших университетов, когда можно объединить их в один и тем самым избежать дублирования тем и, быть может, снизить управленческие расходы? А если и совсем повезёт – то за счёт концентрации ресурсов найти средства нормальным образом профинансировать хотя бы один проект, чем ровным слоем размазывать всё между несколькими – так, что в итоге ни одному из них не будет хватать, чтобы сделать хоть что-то стоящее?
Последний вариант придаёт всему смысл, выходящий за пределы краткосрочного, – но это аргумент от отчаянной бедности, что больше одной ставки мы не потянем, остаётся выбирать между тем, чтобы хоть раз всерьёз рискнуть и попытаться чего-то добиться или только длить и не давать умереть. Впрочем, замечу, что и в этом случае выбор ведь не столь очевиден – опять же, если не мыслить сугубо в рамках момента: сохранившееся, поддержанное на уровне выживания, затем способно стать базой для многого в благоприятных условиях. Но это именно при надежде, что таковые наступят. А если горизонт простирается не дальше вытянутой руки, будущего не существует или, если оно и есть, о нём нет смысла думать предметно, то выбор в пользу пусть одной, но серьёзной попытки, превращается в безальтернативный.
Но стоит выйти за пределы момента – и эта логика, продолжая распространяться (ведь момент никуда не исчезает, он не имеет длительности, и каждый раз, действуя в моменте, обретаешь минувшие годы и десятилетия post factum, в ретроспективе), на среднем сроке, не говоря уже о долгом – превращается в истинную беду.
 Фото: Мобильный репортер / Агентство «Москва»
Фото: Мобильный репортер / Агентство «Москва»Вроде принципа зрелого сталинизма с подчинением каждой области одному «вождю» (уж позвольте не переводить на немецкий). Как Институт истории отмежевался в вотчину Грекову, а юристы – Вышинскому и т.д. Благо в том, что в коротком сроке это приводит к сосредоточению ресурсов на том направлении, которое выбрано и утверждено в качестве главенствующего: те же «Крестьяне на Руси» и древнерусский феодализм цветут буйным цветом, поскольку на это работает вся соответствующая подчинённая система.
А вот потом оказывается всё довольно грустно, поскольку – даже если, допустим, избранное направление и было самым перспективным (что далеко не всегда так), – то основная отдача в первый период уже получена. А вот альтернативы, другие ходы, которые могли бы прорастать у себя, не так бодро, но сохраняясь в рабочем состоянии, – они оказываются погибшими или если и выжившими, то чахлой порослью, чудом.
И потом всё надо начинать через слом, через радикальное обращение вновь к «опыту мировой науки», поскольку таки оказалось, что в ходе того решительного прорыва и преуспеяния получилось от неё радикально отстать.
Собственно, в русской истории есть на этот случай классический пример двух университетских эпох. В качестве первой, условно памятуемой под именем Уварова, стоит вспомнить 1820–1830-е годы, когда мысль была обзавестись своей профессурой и дальше уже зажить самим, на особицу. А дальше – много раз уже хорошо описано, как «уваровская» генерация «молодых профессоров» потихоньку превращается в старых, университеты начинают «закисать». И последующий рывок будет связан теперь уже не с идеей «обучить один раз, а потом они будут производить себе подобных», а в осознанной необходимости регулярности. Поскольку ведь и «омоложение» как одноразовая акция предсказуемо своим буквальным следствием через пару десятилетий имеет «одряхление».
 Фото: Ведяшкин Сергей / Агентство «Москва»
Фото: Ведяшкин Сергей / Агентство «Москва»Вторая эпоха начнется в 1860-е, с научными командировками, введёнными в нормальную практику подготовки к профессорскому званию, – и рядом университетов, как состязающихся, так и сообщающихся. Где есть безусловный центр, лучшие – Московский – и есть безусловно намного более слабые – Новороссийский или Харьковский университеты. Но это не двумерная система – и есть понимание этого, не просто «больше и лучше», «меньше и слабее», а что во многом это иное, прорастающее или идущее куда-то вбок – возможно, совсем ложно, но как знать? Ведь нет всевидящей инстанции, всё имеет свою репутацию, свою силу – оно идёт своим путём, просёлком – но, быть может, именно он окажется даже не кратчайшим, а тем единственным, что ведёт к цели. И это станет лучшим временем в истории русских университетов, лишённых николаевского порядка и александровской ампирной иерархичности, местных профессоров и школ, где харьковский Потебня выглядит странно и архаично на фоне блистательного Веселовского, а с ходом лет выясняется: нет, не то, что всё наоборот, Веселовского и поныне со всеми к тому основаниями почитаем великим, но харьковская архаика, наследие романтической лингвистики, давно сданной в архив на её родине, в Германии окажется не менее важным, чем первое. И ученики, и ученики учеников того же Веселовского в поисках новых путей обратятся к ней. И счастье их в том, что им было куда и к чему обращаться. А будет ли нам?


