Автограф Пушкина – небольшой клочок бумаги из альбома с карандашными рисунками, парой второсортных рифм и росчерком поэта – продавался в наши дни на аукционе за 150 млн рублей. Цена, если вдуматься, сносная: после того как всё, написанное рукой Александра Сергеевича, было (разными путями) сконцентрировано в Пушкинском доме Академии наук, найти любой свободный автограф – большая удача. Подлинность лота удостоверяла экспертиза Министерства культуры РФ.
– Только вот, – растягивая слова и прищуриваясь, делился концом истории Алексей Любжин, – во всех трёх случаях, где в автографе Пушкина должна была стоять буква «ять», стояла буква «е». Предположить, что Александр Сергеевич трижды столь жестоко ошибся, сложно, а вот подумать, что так жестоко ошиблось Министерство культуры, невольно приходится.
Этот рассказ возник где-то в середине презентации новой книги Алексея Любжина «Период полураспада», проходившей аккурат в Пушкинской гостиной филологического факультета МГУ, и мог бы служить эпиграфом ко всему, в книге написанному. Под одним корешком здесь собраны статьи, которые Алексей Игоревич публиковал на «Столе», анализируя состояние современного школьного образования в РФ. Совсем кратко и как-то нелитературно это состояние он охарактеризовал тут же на презентации: «труп».
– Я не отрицаю, что могут быть отдельные школы, которые трупами не являются. Такие, которых один французский министр в пересказе М.Н. Каткова – главного идеолога русской классической гимназии – назвал «школой с честью и именем», – пояснил автор. – Однако это исключения. В целом же так: у нас есть система школьного образования, на поверхности которой постоянно рябь: то флаг поднимут, то гимн исполнят, то введут форму, то отменят обществоведение, то ещё что-то. Моё глубокое убеждение состоит в том, что всё это не имеет никакого значения, поскольку это не меняет существа дела – неспособности школы дать серьёзное и систематическое образование учащимся. Решить эту проблему сейчас нельзя: ни один конкретный министр не повинен в том, что всё идёт так, как оно идёт. Я бы считал тремя условиями результативной деятельности со школой: наличие государственной власти, которая разбирается в проблематике, наличие общества, которое имеет запрос на хорошую школу, и наличие педагогического корпуса, который способен реализовать проект реформы школьного образования. Полагаю, что к самой реформе можно приступать, если есть хотя бы два плюса и один минус. Но сейчас у нас три минуса. Исходя из этого убеждения, я и написал данную книгу статей. И когда сталкиваюсь со студентами, могу только сказать им: если вы что-то знаете – это ваша заслуга, а если вы чего-то не знаете – это не ваша вина.
Отпущение всех образовательных грехов присутствовавшим на презентации студентам согрело аудиторию. В зале гостиной со следами небрежности массового советского строительства и дождливой линией горизонта Воробьёвых гор во всё окно началось едва заметное оживление.
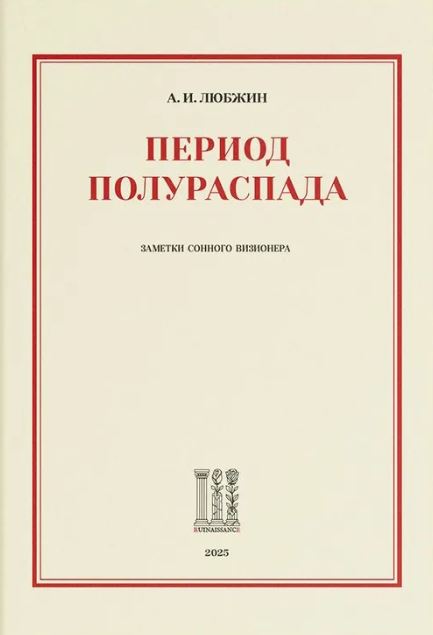 Обложка книги. Фото: Ruinaissance
Обложка книги. Фото: Ruinaissance– Алексей Игоревич, я преподаю древние языки в одной школе, – призналась волоокая выпускница филфака. – Но дети совершенно не хотят учиться: они не понимают, ни зачем им это, ни за что. Остаточные знания, честно говоря, оказываются не очень высокими. И мне интересно, а как было в дореволюционных гимназиях? Как там усваивалась программа?
Поскольку началом презентации послужило заявление Алексея Любжина, что между Российской империей и Российской Федерацией ничего общего нет, что пропасть советской массовой школы, усреднившей разнообразную дореволюционную школу до имеющейся безликости, – глубока, вопрос претендовал на ревизию позиции автора. Неужели там правда было… лучше?
– Это сложный вопрос, потому что он заболтан публицистикой, – аккуратно начал Алексей Любжин. – Министр просвещения граф Д.А. Толстой утверждал, что тяга к классическому образованию в русском народе велика, потому что его везде просили открыть классические гимназии. Были и другие точки зрения. Например, Щапов в своей книге «Социально-педагогические условия умственного развития русского народа» высказывал вполне расистскую теорию, что русским не под силу изучение классических языков, и нечего их даже мучать. Можно выбирать, к кому прислушиваться. Разумеется, граф Д.А. Толстой несколько лукавил: гимназии просили открыть прежде всего потому, что они давали доступ к университетскому образованию. Но, на мой взгляд, это лукавство было честным: интеллектуальный слой создаёт школа развития, к которой, в свою очередь, приманивают университетским образованием. И только младенческое общество настаивает на утилитарном понимании школы. Оно, конечно, отторгает саму идею школы развития.
Чем живёт общество, отвергающее идею «школы развития», блокирующее создание «интеллектуального слоя»? По мысли автора сборника, – энергией отшедшей культуры, её едва заметным, но длящимся излучением.
– Я именно так и понимаю название книги: «Период полураспада», – сообщил Павел Лукьянов, глава издательства Ruinaissance, в котором вышла книга. – Культурный взрыв уже был, и он был связан с эпохой расцвета Российской империи. Период полураспада – это время, за которое статистически распадается половина ядер, и излучение сильно ослабевает. Излучение старой культуры настолько ослабло, что почти не ощущается сейчас. Но всё же оно не может совсем прекратиться: мы не знаем периода «полного распада». Та культура продолжает действовать на нас с вами, несмотря ни на что.
В ожидании нового взрыва, которое, по мысли собравшихся, обещает быть долгим, одним свойством современной школьной системы предлагалось утешиться. Оно роднит её с дореволюционной системой: и тогда, и сейчас о школе можно было рассуждать и – более того – её критиковать. Эта область оставалась и остаётся местом безопасного социального высказывания, а значит, местом возможной рефлексии общества о своём ценностном профиле и желаемом будущем.


