Нецензурная лексика в русском языке – явление не новое, не периферийное и уж точно не случайное. Мат возник не как «уличный сор», а как сложная, ритуализированная часть языковой системы, долгое время существовавшая в чётких границах, с ясным пониманием того, где ему место, а где – нет. Он был связан с телесностью, агрессией, инициацией, границей дозволенного, и именно поэтому долгое время оставался за пределами публичного пространства, не проникая ни в печатное слово, ни в официальную речь, ни тем более в детскую среду. Даже в советское время, при всей размытости многих норм, мат сохранял статус запретного, и это, как ни парадоксально, работало на его сдерживание лучше любых плакатов.
Сегодня ситуация иная. Мат перестал быть пограничным языком и стал фоновым шумом. Он звучит в общественном транспорте, во дворах, в очередях, в школьных коридорах, в речи подростков и взрослых, в бытовых диалогах и в комментариях к новостям. Он перестал удивлять, перестал маркировать крайнее эмоциональное состояние и всё чаще используется как связка, как усилительная частица, как замена паузы, как универсальный маркер «своего». Мы настолько к этому привыкли, что часто просто не слышим, но только до тех пор, пока не выпадем из привычного контекста.
 Фото: FreePik
Фото: FreePikУ меня был такой опыт. Я почти год не жила в России, и речь не шла о какой-то стерильной языковой среде или показательной тишине, просто другое пространство, другой ритм, другая степень вербализации агрессии. Когда я вернулась, первое, что буквально ударило по ушам, – это количество мата на улицах. Не в конфликте, не в драке, не в ситуации крайнего напряжения, а просто в повседневной речи, между делом, без всякого повода. Мужчины, женщины, парни с пивом, девушки с маникюром – просто все. Я помню это чувство обескураженности: как будто ты долго жил рядом с шумной дорогой, привык к постоянному гулу и перестал его замечать, а потом вдруг уехал, пожил в тишине и, вернувшись, понял, что всё это время жил в звуковом тумане.
Самое важное здесь – именно эффект «чистого уха». Пока ты внутри среды, ты адаптируешься, подстраиваешься, перестаёшь различать нюансы. Мат становится просто частью акустического пейзажа, как реклама, как звонки телефонов, как фоновые разговоры. Но стоит на время выйти из этого поля – и возвращение оказывается болезненным. И тогда вдруг становится ясно, что речь идёт не о «плохих словах» и не о морали, а о плотности языка, о его засорённости, о том, сколько смыслов мы теряем, когда используем один и тот же грубый универсальный ключ к любым эмоциям от раздражения до радости.
 Фото: FreePik
Фото: FreePikОсобенно ясно я это вспоминаю из детства. Мне было лет восемь, и тогда умение материться воспринималось как нечто по-настоящему взрослое, почти как курение или умение поздно возвращаться домой без объяснений. Мат был не столько речью, сколько своеобразным ритуалом инициации, когда важно было не содержание, а сам факт, что ты можешь, что тебе не слабо произнести определённые слова вслух, даже если ты не до конца понимаешь их смысл, оттенки и происхождение. Это было своеобразное предъявление себя миру, сродни доказательству того, что ты уже не совсем ребёнок, что ты владеешь тайным знанием и можешь перейти границу дозволенного. И, возможно, именно так мат и закрепляется в языке как маркер «взрослости», силы и принадлежности, задолго до того, как мы начинаем использовать его механически, не задумываясь ни о границах, ни о смыслах, ни о том, что он в итоге вытесняет.
Ещё одна сложность выявляется, когда слово начинает делать обратный ход, и не углубляет смысл, а, наоборот, упрощает и уплощает его, делая расхожим и пригодным для самых разных ситуаций. Один мой друг сравнил такие слова ведут с метастазами: они сначала занимают удобные позиции, а потом начинают подминать под себя всё вокруг, вытесняя другие способы назвать, описать, различить. В этом смысле мат небезобиден не только для слуха, но и для ума, потому что он предлагает готовое решение там, где могла бы быть мыслительная работа.
И здесь мне кажется важным сделать шаг в сторону от привычного лозунга «борьбы с матом». Потому что борьба почти всегда рождает сопротивление, а запрет настраивает на то, чтобы искать обходные пути. Мы это прекрасно видим на примере многочисленных «антиматных» инициатив, которые иногда производят эффект прямо противоположный задуманному. У меня, например, есть знакомые, которые ходят по улицам города и поют антиматные частушки. Причём делают это с искренним энтузиазмом, любовью к фольклору и твёрдой установкой на очищение речи. Они даже подарили мне сборник этих частушек, аккуратно и с любовью изданный.
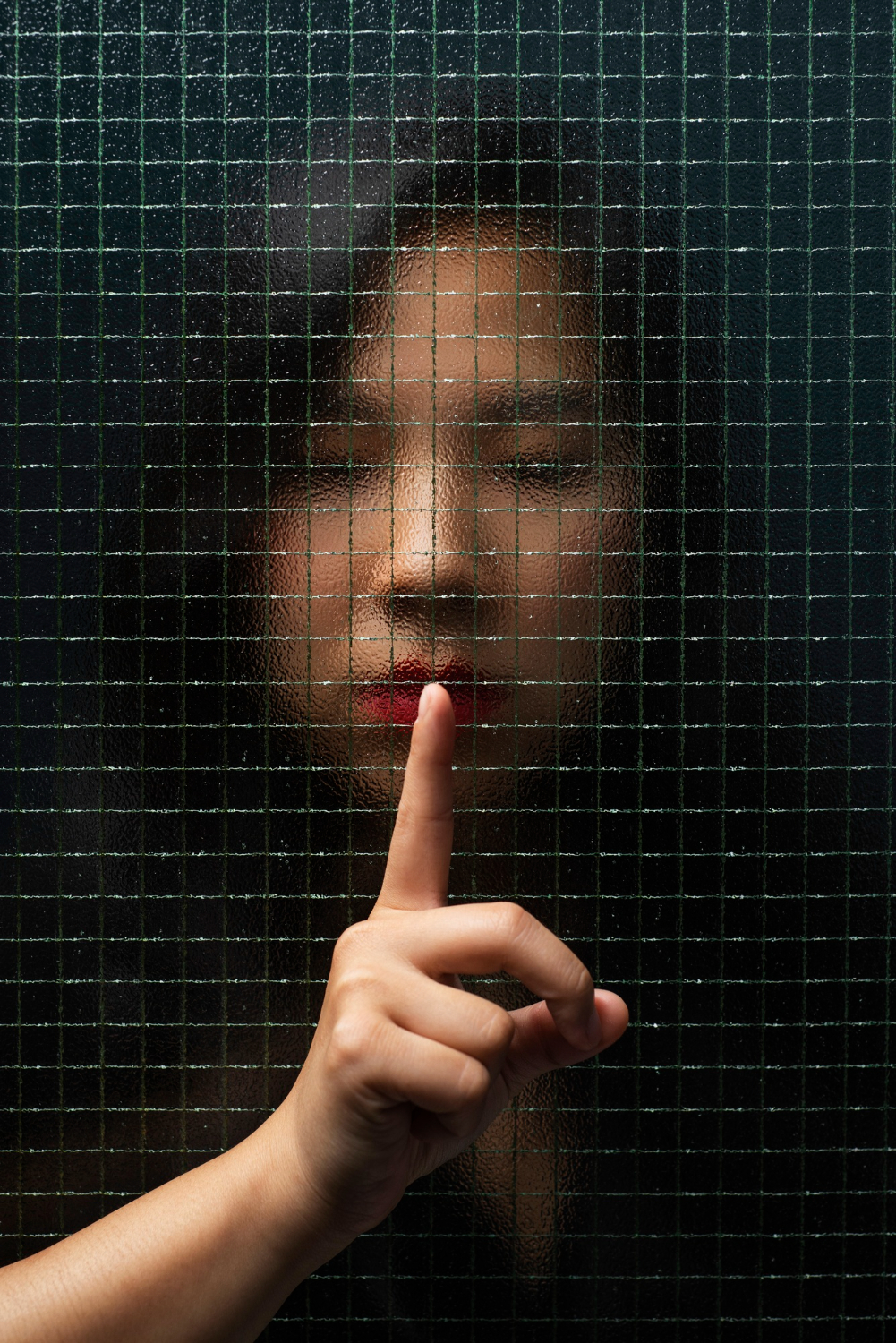 Фото: FreePik
Фото: FreePikМоё первое знакомство с этим жанром было, мягко говоря, шокирующим. Потому что частушки вроде бы направлены против мата, осуждают его, высмеивают, разоблачают, но при этом устроены так, что слушатель неизбежно вспоминает, а иногда и мысленно проговаривает, именно те слова, против которых всё это затеяно. Они как будто постоянно ходят по самой кромке запрета, заглядывают в него, подмигивают ему, и в результате внимание фиксируется не на языке без мата, а на самом мате, пусть и в отрицательном контексте. Получается странный эффект, что мы вроде бы боремся с явлением, но всё время его воспроизводим, удерживаем в фокусе, не давая ни ему раствориться, ни нам от него полностью освободиться.
При этом было бы ошибкой делать вид, что мат – единственная беда нашего языка. Увы, но нет, хотя он безусловно торчит наиболее заметно и сильно. Язык вообще склонен к самоупрощению, если его не удерживать вниманием. Эвфемизмы, бесконечные повторы одних и тех же удачных когда-то формул, остроты, которые кочуют из контекста в контекст, постепенно теряя и смысл, и остроту, работают примерно так же. Стендаль, кажется, писал, что шутка, сказанная второй раз, перестаёт быть остротой, а в третий раз она уже просто становится шумом. Сегодняшние «от слова совсем», «грубо говоря» и другие речевые костыли живут по тем же законам: они сначала помогают, потом подменяют, а потом просто занимают место, где могло бы быть живое слово.
 Французский писатель Стендаль. Фото: Fonds Bucci, Bibliothèque Sormani
Французский писатель Стендаль. Фото: Fonds Bucci, Bibliothèque SormaniИменно поэтому мне кажется, что гораздо продуктивнее говорить не о борьбе с матом, а о борьбе за чистоту русского языка, но не в смысле стерильности или выхолощенности, а в смысле внимательности, разнообразия и ответственности за слово. Потому что проблема не в том, что в языке существует мат, а в том, что он вытесняет всё остальное, упрощает речь, делает её ленивой и однообразной. Когда одно и то же слово начинает обслуживать слишком много смыслов, язык беднеет, даже если при этом кажется более «живым» и «настоящим».
Чистота языка заключается не в запретах и не в табличках «не выражаться», а во внутреннем слухе, в способности различать оттенки, подбирать слова, которые действительно соответствуют переживанию, а не просто сигнализируют о нём. Она заключается в умении злиться, радоваться, возмущаться, иронизировать, не сводя все свои эмоциональные переживания к нескольким грубым маркерам. И, что особенно важно, чистота языка требует такого публичного пространства, в котором язык формирует не только индивидуальное высказывание, но и общую атмосферу – ту самую, в которой растут дети, формируется вкус, складывается понятие нормы.
В этом смысле Всемирный день борьбы с нецензурной лексикой можно воспринимать не как повод достать моральный хлыст, а как редкий шанс просто остановиться и послушать. Послушать улицу, транспорт, двор, собственную речь в конце концов. Услышать, где мы говорим по привычке, где по инерции, а где упираемся в мат или в молчание, потому что нам действительно не хватает слов. И, возможно, в этот момент станет ясно, что бороться стоит не с конкретным словарным слоем, а за саму способность говорить по-русски так, чтобы язык оставался живым, точным и многообразным, а не превращался в набор громких, но пустых звуков.
Потому что язык, в отличие от мата, действительно нуждается в том, чтобы на него бороться.


