Великое возвращение традиционных ценностей, начавшееся в СМИ этой осенью, поражает шумовыми эффектами: о русском много говорят, поют и даже танцуют. В этом вихре русским может быть объявлено абсолютно всё: советская топонимика, языческий праздник и даже Стивен Сигал.
Намеренно или ненамеренно, но этап различения понятий здесь пропущен. В частности, носителем русских смыслов и ценностей объявляется современный российский (ещё вчера советский) народ, которого все опрашивают, чтобы потом полученными сведениями снабжать его же – уже для формирования традиционного самосознания. Это, если вдуматься, интересный замкнутый цикл: нечто существующее в массовом сознании посредством механики общероссийских опросов возводится в ранг традиции, характера или «культурного кода», упаковывается – и помогает поддерживать это же существующее. Вопрос о подлинности традиции не ставится даже теоретически, как и о том, что традиция – понятие динамическое и предполагает ответственный выбор, чему наследовать.
Исследование «Русская среда», инициированное благотворительным фондом «Жить вместе» в рамках программы «Русский университет», восполняет именно этот пробел: оно работает с понятиями. Двадцать экспертов, включённых в вихрящийся русский спор, были изъяты из этого вихря командой социологов РАНХиГС под руководством Дмитрия Рогозина на три-четыре часа для неторопливого разбора: кто такой русский, а кто советский, а кто российский?.. И всё это сквозь призму личного отношения к предмету с попыткой уловить тот момент, когда русская тема зазвучала в их жизни.
Среди опрошенных экспертов были очень разные люди: историк Сергей Волков, глава ГК «ЭФКО» Сергей Иванов, архим. Савва (Мажуко), фольклорист Сергей Старостин, основатель «Листвы» Дмитрий Бастраков, социолог Ирина Дуденкова, филолог Владимир Котельников, политик Роман Юнеман, урбанист Свят Мурунов и другие. И при всей разнице нельзя было не заметить их очевидно объединяющего факта: мы разговариваем с первым поколением русских людей на территории современной России.
Они первые, потому что не выросли в русской среде, не имели надёжных учителей-носителей «русскости» и, как правило, могут вспомнить момент своего «обращения». «И только после первого курса консерватории я оказался в первой фольклорной экспедиции, которая в корне поменяла моё музыкальное мировоззрение. Там я понял, что есть какая-то культура, которая меня сразу берёт за горло, за душу, минуя всякие, так сказать, интеллектуальные фильтры, которые существуют в голове образованного человека», – рассказывает Сергей Старостин. Но и другие респонденты сообщают: «Этот вопрос, если брать меня лично, он встал во весь рост после 22-го, после 2014 года, на самом деле», «у меня не было ни одного учителя, я учился всегда сам, я самоучка от младых ногтей», «я к русской идее пришёл таким апофатическим методом» и т.д. Кто-то может возразить: но они же жили в России, родились на этой территории – значит, всегда были русскими. И тогда выяснится, что у понятия «быть русским» есть разная глубина.
Одно дело – родиться в конкретной географической точке, другое дело – осознавать себя русским, и третье – свободно владеть тем, что можно назвать русским наследием. Русскость в неторопливых беседах с нашими респондентами оказалась понятием качественным: эксперты замечали, что можно быть «более или менее русским» в зависимости от твоего «погружения в контекст». Этим контекстом раз от раза оказывались язык, культура и вера, – причём все три понятия не имеют дна и требуют от заинтересованного неофита (которым на постсоветской территории является каждый) полного погружения. Адекватной метафорой такого усилия мог бы быть рассказ о судьбе эмигрантов первого поколения, желающих встроиться в чуждое общество. Но тут задача усложнена: реального русского общества, идеи и практики жизни которого можно было копировать, не существует. Это как если бы русский, переселившийся в Америку, не нашёл там ни одного американца – но должен был бы сам стать таковым, имея в качестве подспорья малотиражные книги, забытые семейные архивы и руины былых построек.
Между людьми, живущими в современной России, и русской традицией стоит серия опосредующих самоопределений, самые известные из которых – это «советские» и «российские». Эти определения, как латексные перчатки, делают стерильным и музеефицируют любое прикосновение к русскому наследию. Ты можешь видеть русское в свете непрерывной русско-советской истории, где преодолевался великодержавный шовинизм и рождался многонациональный народ, – вот тебе советская «перчатка». Или можешь думать о русском как об универсальном концепте гражданской нации, которая соответствует всем политологическим канонам, – это российская «перчатка». Добиться непосредственного восприятия русского как русского гораздо сложнее, но именно оно рождает творческий импульс. Контент-анализ собранных нарративов показывает: размышление о русском – это место поиска и творческих находок, в то время как область разговора о советском и российском – пространство предписаний и шаблонов.
 Фото: Кузьмичёнок Василий / Агентство «Москва»
Фото: Кузьмичёнок Василий / Агентство «Москва»Все попытки заключить «русский характер» в тот или иной набор параметров в данном исследовании провалились: респонденты называли разные вещи, говоря о самом характерном для русского человека. Если не соглашаться на клише и шаблоны, русские – разные. Но нечто общее всё-таки можно обнаружить, и этим общим будет концепт открытости. Определение русских как «открытых» вкупе с понятиями схожего семантического ряда (отзывчивость, обращённость к другому/небесам, доброжелательность, эмпатичность и т.д.), очерчивает контуры самоощущения русских первопроходцев XXI века, важной частью которого является мысль, что русским может стать любой. Основой такого обращения является прежде всего выбор: готовность иметь «общую судьбу» с этим народом и/или «воспитать русскими» своих детей.
У названного выбора есть и некое ценностное измерение. Разговор о русской идее и русских святынях сегодня идёт тяжело – даже в том доверительном пространстве, которое создавал экспертный формат опроса (страшно представить, с какими реальными ограничениями он сопряжён, когда мы имеем дело с массовыми опросами). Все эти понятия используются в демагогических целях, они перегружены дурными ассоциациями и гудят от роя конъюнктурщиков. Но если удаётся продвинуться дальше, шаг за шагом разминируя пространство «русской идеи», респонденты снова начинают говорить об открытости, но уже иначе – как о задаче или призвании народа. «Стать ковчегом для всех людей», «идея объединительная», «идея братства», «доверие и распределенность» – мечта о новом качестве отношений прослеживается здесь последовательно и явно. Первые русские вспоминают об общественности и братстве и ищут вдохновения во встрече с другими или другим.
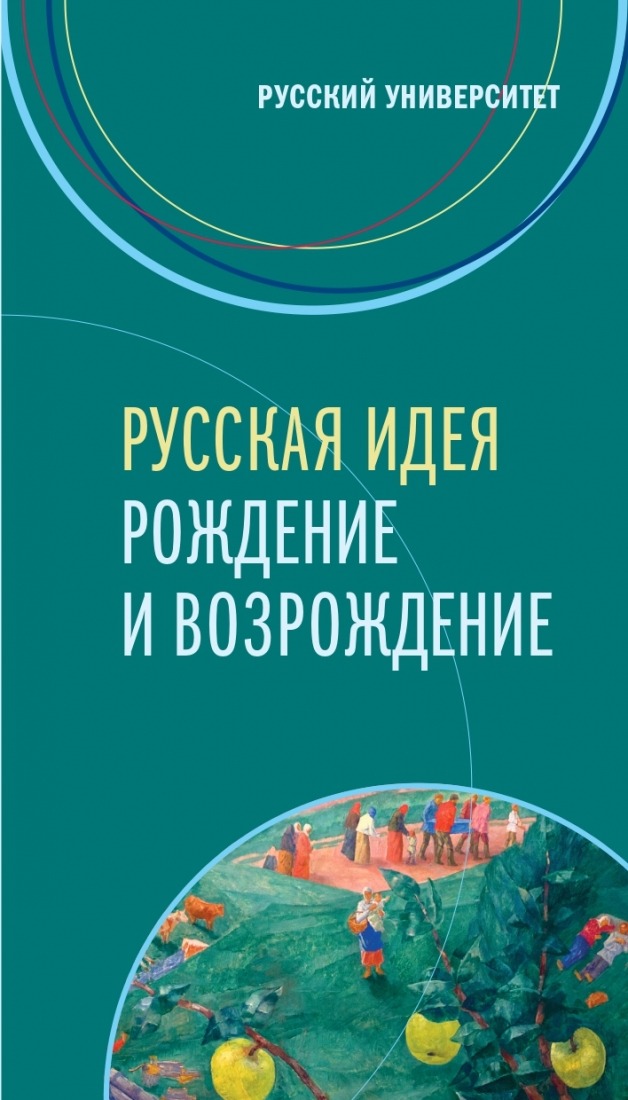 Книга «Русская идея. Рождение и возрождение». Издательство: Благотворительный фонд "Жить вместе"
Книга «Русская идея. Рождение и возрождение». Издательство: Благотворительный фонд "Жить вместе"Ключевой метафорой для них оказывается метафора пути. «Если считать, что есть пять этапов постсоветской истории на пути к русской теме, то сейчас, наверное, второй или третий». Сейчас – очень важный момент для наших собеседников: в нём по-прежнему много подмен и откровенной глупости, но есть два компонента, которые выходят на первый план в формировании личности (как следует из биографических нарративов) – наличие достаточной личной свободы и возможности служить делу, в которое веришь. Будущее для опрошенных тоже возникает где-то сейчас, они включены в его производство и с благодарностью оценивают вклад других сил: и властей, и постсоветских и советских граждан. При этом они сохраняют понимание своей уникальной роли – в транзите от советского к русскому, в появлении второго и третьего поколения русских людей. Основным риском в этом процессе признаются не экономические или политические потрясения, а конфликты, которые вобьют «отравленные иглы» в саму идею русскости как открытой и доверительной общности. Поэтому, говоря о стратегиях действия, респонденты делают ставку на расширение сфер доверительного общения, этику взаимодействия и честную конкуренцию со всеми другими вариантами самоопределения современного жителя России. «Мой образ будущего: возвращаются категории доброты, будущего, времени, идентичности», – лаконично перечислил один из участников опроса. И всё это благодаря глубинному размышлению о себе и своём, о русском и не очень, добавим мы.
Вы можете включиться в общее размышление, воспользовавшись онлайн-анкетой, составленной по итогам экспертного опроса: ведь ещё одним выводом нашего исследования стало убеждение, что его нельзя обрывать – русская среда, как и русский язык, требует дальнейшего погружения.


