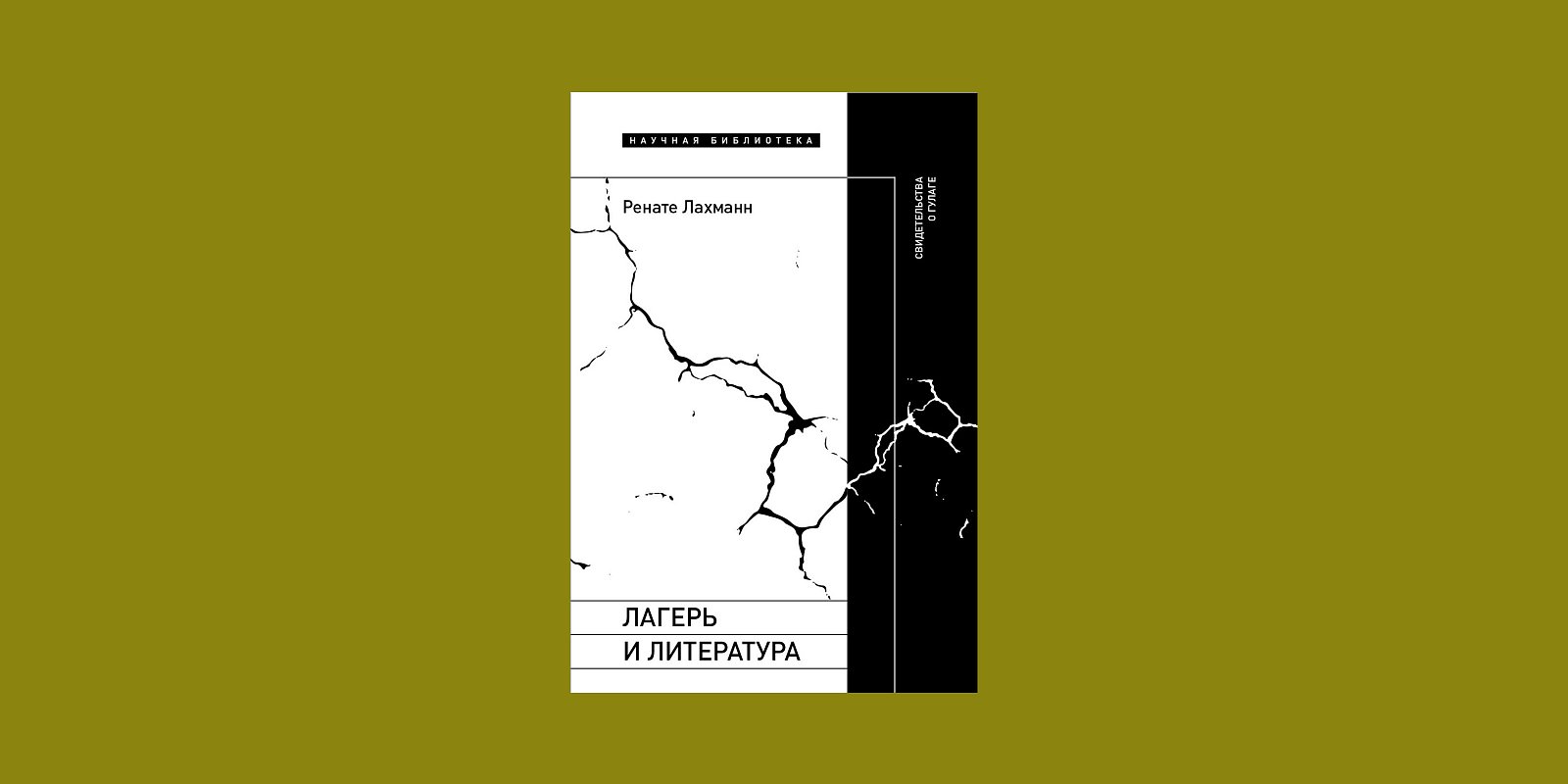Гнетущую тяжесть повествования о немыслимых страданиях авторам некоторых из рассматриваемых автобиографий удается уравновесить при помощи своеобразных «противопоставлений и контрфорсов». Проявляется это, на мой взгляд, в трёх моментах: в рассказах о сновидениях, в изображении впечатлений от природы и в сценах, где пишущих поддерживает и возвращает к жизни литература.
<...> Вместо «другого пространства» (тюрьмы, лагеря), которое воспринимается как чуждое, переживший острый опыт разрыва узник лагеря создает себе такое место, которое может симулировать оставленный мир и компенсировать его утрату, то есть некое «место без места», спасающее от того, куда человека поместили насильственно. Эту задачу может выполнять сновидение – правда, в своей двойной функции: как несбыточная мечта и как кошмар.
Рассказы о снах выступают фикциональными вставками внутри фактографических отчетов, авторы которых, впрочем, отнюдь не придерживаются поэтики сновидения и не занимают каких бы то ни было онейротических (психоаналитических) позиций, а передают приснившиеся сны как часть излагаемого лагерного опыта. В пространстве грез, куда они вступают по ночам (голодные, продрогшие, совершенно обессиленные дневным принудительным трудом), возможны пьянящие видения ломящихся от яств столов в теплых комнатах или просто сны о хлебе, равносильные мечтам о выживании.
 Ренате Лахманн. Фото: Leibniz-Zentrum für Literatur- und Kulturforschung
Ренате Лахманн. Фото: Leibniz-Zentrum für Literatur- und KulturforschungПодобные сны видел в Освенциме Примо Леви; посещали они и Юлия Марголина в советском исправительно-трудовом лагере близ Онежского озера, о чем говорится в его воспоминаниях «Путешествие в страну зэ-ка». Во сне Марголин видит себя на свободе:
В течение всего первого года в заключении я неизменно каждую ночь видел себя свободным. <…> Ничто лагерное не проникало в мои сны, хотя бы в форме радости, что я уже не зэ-ка. Я просто ничего не помнил о лагере <…>. Я гордился тем, что остаюсь свободным в глубине подсознания, и ждал с нетерпением ночи, чтобы хоть во сне выйти из лагеря. <…> Но постепенно лагерь стал брать верх. <…> Я даже во сне носил арестантский бушлат, озирался во все стороны <…>. Душа моя не могла выйти из лагеря (М I 283).
Герлинг-Грудзинский, уже находясь в так называемой мертвецкой, видит сны о родине, в которых проходит знакомыми путями, узнает знакомые здания:
Этот сон возвращался с такой точностью и безотказностью, что я нашел новую радость в самом ожидании его, в смиренном призывании его, когда в бараке начинало смеркаться (ГГ 236).
Однако желание покинуть зону, равно как и насытиться, во снах не исполняется. Это Танталовы сны, но сниться они не перестают. Марголин пишет: «Потом начались голодные сны. Типичные и массовые, у всех одинаковые сны зэ-ка» (М I 283). У Леви описаны попытки сновидцев добраться до близкой еды:
Пищу не просто видишь, но держишь в руках конкретный продукт, определенную еду, вдыхаешь ароматный дразнящий запах, уже подносишь к губам… и тут что-то обязательно случается, каждый раз разное, но результат один: в рот ничего так и не попадает. <…> дневные муки — голод, побои, холод, физическая усталость, страх, униженность — превращаются ночью в череду невообразимых, бесформенных кошмаров, которые в обычной жизни мучают человека лишь при высокой температуре (Л I 73–74).
Лежа на нарах рядом с ворочающимися, всхлипывающими, тяжело дышащими соседями, Герлинг-Грудзинский видит сны, определяемые им как «сцены эротически-людоедские»: «любовь и голод вернулись к своему общему биологическому корню» (ГГ 153). Марголин пишет:
Неумолимый цензор в подсознании обрывал все голодные экстазы в последнюю минуту, не допуская их до осуществления. Почему? Здесь «нельзя» диктовалось очевидным отказом нервной системы, таким истощением нервной системы, которое даже в воображении не позволяло уже реализовать того, что так страшно превышало реальные возможности (М I 284).
Еще один тип мучительных сновидений – о покинутости или непонимании близкими людьми из отнятого мира. Во сне Марголин оказывается в обществе родных, но чувствует себя отделенным от них:
Иногда мне снилось, что я в далекой стране, среди моих близких и родных, но, говоря с ними, я был полон безотчетного горя, которое совсем не вытекало из содержания сна. Во сне у меня было странное ощущение, что меня что-то отделяет от них, и я как собака привязан невидимой цепью (М I 283).
Леви снится полная разочарования встреча с сестрой, которой он хочет обо всем рассказать:
…Моя сестра, несколько друзей (кто именно – не могу сказать, но знаю, что это близкие друзья), еще какие-то люди… Все слушают меня, а я подробно рассказываю о трехзвучном свисте, о жестких нарах, о соседе, которого мне хочется подвинуть, но я боюсь разбудить его, потому что он сильнее меня. Рассказываю о нашем голоде, о проверке на вшивость, о том, как капо ударил меня в нос, а потом отправил умываться, потому что я был весь в крови. <…> Сестра смотрит на меня, встает и, не сказав ни слова, выходит из комнаты (Л I 71–72).
Как выясняет Леви, подобные сны о непонятости снятся и другим. Возникает своего рода ночная сновидческая общность. Сон допускает возвращение оставленного мира, одновременно препятствуя контакту с ним. Аффективно насыщенное пространство сна знаменует собой временное ускользание из пространства лагерной власти (создает другую темпоральность), позволяя сновидцу ностальгически-мучительно переживатьто место, куда он стремится попасть.
<...> Сновидцы обмениваются сновидениями, ввиду своей очевидной прозрачности не нуждающимися в расшифровке. Изучавший естественные науки Леви и автор диссертации «Основные явления интенционального сознания» (Grundphänomene des intentionalen Bewußtseins) Марголин были знакомы с фрейдовской психоаналитической теорией сновидений, однако не сочли необходимым работать с этими сновидениями, дабы извлечь на свет их скрытое под онейрическими образами истинное содержание. Ведь образы их снов отнюдь не были смутными, аллегорическая сторона этих Танталовых грез легко просматривается, равно как и функция смещенного восприятия пространства-времени и актуальности или неактуальности логических связей. Допускаемое теми, кто видит такие сны, толкование направлено на придание связности неупорядоченному и воспроизведение сновидческих образов.
Но едва наши глаза закрываются, мы ощущаем, как сознание, не способное к покою, вновь, помимо нашей воли, начинает работать: оно стучит и гудит, рождая призраков, рождая жуткие образы и безостановочно проецируя их серое расплывчатое изображение на экраны наших снов (Л I 75).
Ставится и вопрос о физической причине этих сновидений; Марголин считает таковой крайнее изнеможение, благодаря которому бессознательное может позволить себе онейрические слабости. <...>
Сновидение переживается как временное пребывание между предполагаемой и отнятой действительностью, пограничная область, открывающаяся между явью и сном,
внутренним и внешним, реальностью и воображаемым. Находиться в этой пограничной области значит грезить, лежа на нарах, о попадании в вожделенное пространство, ожидая возможного в любой момент жестокого пробуждения, выталкивающего в полный ужаса новый день. Марголина это пробуждение пугает настолько, что он не сразу принимает реальность бодрствования, на какие-то мгновения оставаясь «на грани».
Продолжение читайте в книге