Рассказав о воззрениях современных авторов на гибель Советского Союза в прошлом тексте, стоит продолжить тему рецензией на ещё одну недавно вышедшую книгу, посвящённую схожей же проблематике. Речь идёт о «Секретарях» Олега Хлевнюка и Йорама Горлицкого. Как следует уже из названия, авторы сосредоточили свой анализ на специфике функционирования регионального корпуса советских руководителей: первых секретарей обкомов, крайкомов и рескомов в СССР.
Образованием не обременены
Обзор начинается со времён Сталина. Ранняя партия постоянно проходила серьёзные «чистки», и удержаться внутри Красного Государя, особенно на таких больших должностях, было непросто. Сильнейшим ударом по корпусу секретарей стал Большой террор, кардинально обновивший его состав. Перед Большим террором в номенклатуре оставалось много людей, пришедших в партию в 20-х, когда Сталин ещё не приобрёл полноты власти; также эти люди очевидно входили в состав победившей стороны в гражданской войне, поэтому часто рассматривались как приспособленцы, чья личная лояльность Сталину – под вопросом. Большой террор уничтожил многих из них, приведя к власти «сталинских соколов» – достаточно молодых руководителей, целиком и полностью обязанных карьерой Сталину или кому-то из сталинских же выдвиженцев.
В 1939 году основной костяк и статистическое большинство первых секретарей – 53,2 процента – составляли молодые люди 30–35 лет. В более ранней сборке Государя, к 1937 году, преобладала когорта 36–40-летних (их было 44 процента). Заметим, что меньше трети «соколов» имели высшее образование, около трети – только начальное.
Внутреннее доверие в среде номенклатуры этого уровня было, очевидно, на предельно низком уровне: только что прошла кампания, в рамках которой помощники и товарищи уничтожали своих руководителей и соратников массово и системно. И странным образом это взаимное недоверие породило новый негативно сплачивающий фактор, а именно: компромат. Если нельзя доверять человеку лояльному и с прозрачно чистой биографией, можно доверять человеку, у которого с биографией проблемы: если об этих проблемах знает руководитель, но не знают органы, с таким человеком можно иметь дело.
Также в сталинское время набирает популярность практика внезапного повышения людей внутри регионального аппарата. Человек, занявший высокую должность исключительно благодаря воле первого секретаря, был лоялен лично ему, зная, что остальной аппарат съест его, новичка, при первой возможности.
В этом контексте книга развенчивает старый известный красный миф: что, мол, при всей кровавости большого террора Сталин стабилизировал систему, что позволило ей выстоять во время войны.
 Генеральный секретарь ЦК ВКП (б) Иосиф Сталин (слева) и член ЦК Никита Хрущев в президиуме Х съезде комсомола. Фото: РИА Новости
Генеральный секретарь ЦК ВКП (б) Иосиф Сталин (слева) и член ЦК Никита Хрущев в президиуме Х съезде комсомола. Фото: РИА НовостиНа самом деле – нет. Система была дестабилизирована и частично разрушена. Представители номенклатуры были деморализованы, а в исполкомах банально не хватало людей, чтобы организовать управленческую работу. Прибавим сюда недозрелость новых первых секретарей, их слабый уровень образованности – и увидим, что именно на партийный аппарат чистки в преддверии войны повлияли очень тяжело.
Секретарские биржи
Война же проявила новую черту Красного Государя: в условиях жесточайших вызовов центру, как оказалось, нужно было находить здравый баланс между централизацией и децентрализацией. Он был просто-напросто не способен проконтролировать детальные указания и их осуществление, поэтому был вынужден давать первым секретарям и промышленным руководителям карт-бланш в плане средств и методов, требуя лишь результат.
Секретари во время войны постоянно передвигались по разным должностям; и в то же время там, где им удавалось укрепиться, в считанные годы вырастал культ той или иной личности. Личное влияние, личная власть становились ключевым движителем властной энергии, что было и выражением ставки центра на умеренную децентрализацию, и выражением общесоюзного формата личной власти.
 Кадр из фильма «Секретарь обкома», 1963 года. Фото: Мосфильм
Кадр из фильма «Секретарь обкома», 1963 года. Фото: МосфильмВо время войны также была задана роль первого секретаря обкома как арбитра. Первый секретарь обладал формальной властью над партийным аппаратом региона, но при этом он мог опираться на партию в целом при решении непростых вопросов. Формально руководитель предприятия, расположенного в районе, либо командир воинской части могли не опираться на первого секретаря. Но они знали, что, выстраивая с ним рабочие доброжелательные отношения, можно организовать перераспределение региональных ресурсов в свою пользу. Первый секретарь, имея по партийной линии подчинённых во всех сферах общественной жизни, имел также исчерпывающую информацию о том, что есть в регионе, и о том, чего нет. Соответственно, он мог оптимально перераспределять ресурсы, так что аппарат региональной партийной власти выполнял де-факто функционал биржи, только работающей не на рыночных основаниях, а на административных.
Сами секретари на уровне центра могли действовать и по партийной, и по государственной линии. В то же время они старались противодействовать диктату центра – и в частности, воле уполномоченных, присылаемых центром для выполнения каких-либо конкретных указаний. Центр же, очевидно, действуя в рамках ежечасно меняющейся конъюнктуры, помимо присылки уполномоченных, наделял первых секретарей полномочиями, относящимися скорее к отраслевому руководству. Например, они могли получить право мобилизовать в оборонных целях любое незадействованное промышленное оборудование в своих регионах. Поскольку это было ещё не правовое государство, границы слова «незадействованное» определялись собственно секретарём.
Война очень сильно перекроила и состав партии: численно она выросла почти в два раза, в неё вошло много людей из армии.
После войны некоторое время корпус секретарей был стабилен, он почти не подвергался чисткам. Новая ротация наступила ближе к концу 40-х годов с открытием отдельных дел – вроде Ленинградского и Мингрельского. Однако такие чистки носили уже относительно локальный характер, не перетряхивали полностью всю колоду первых секретарей.


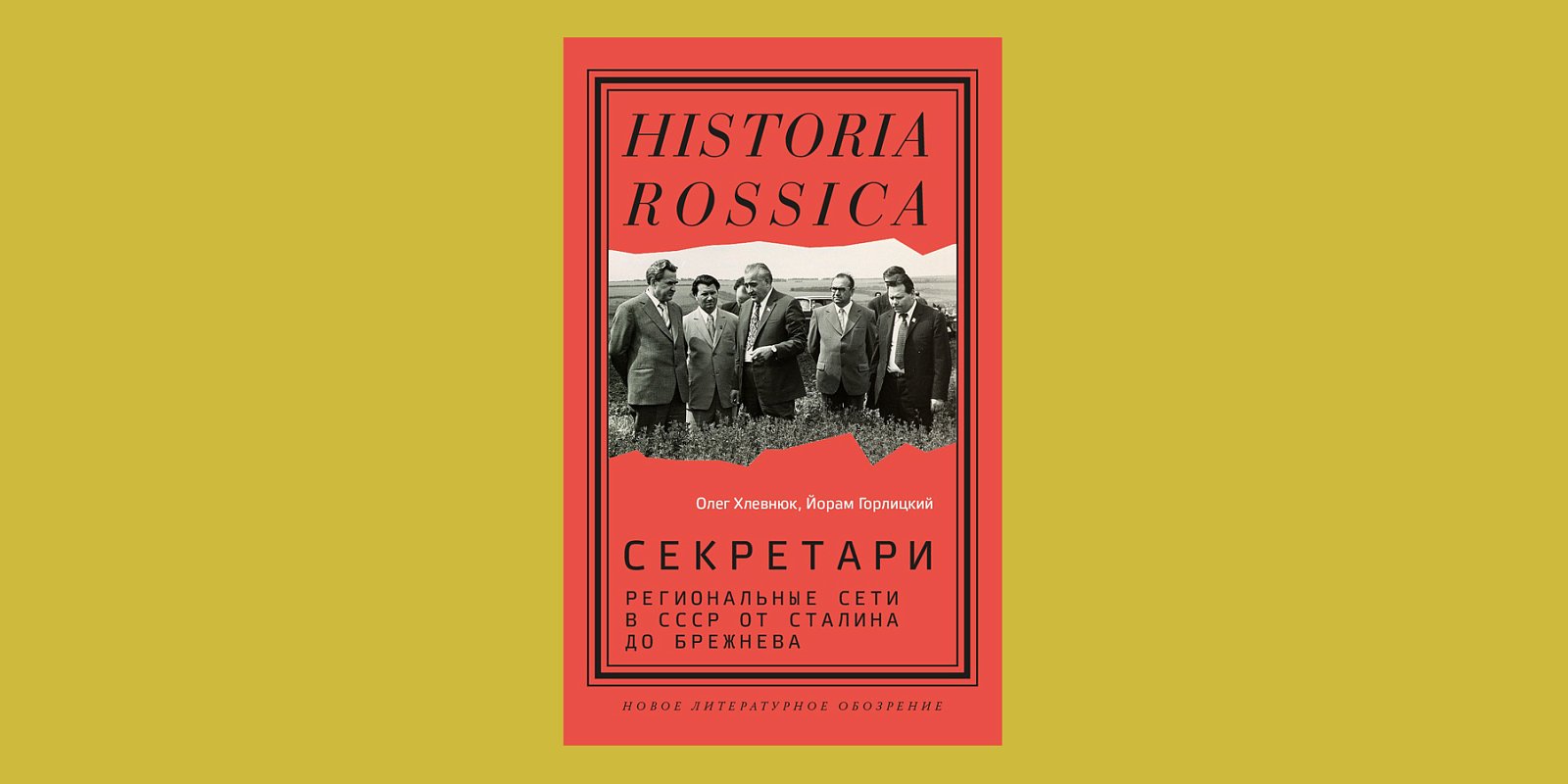
 Кямран Мамед оглы Багиров, первый секретарь ЦК Компартии Азербайджана. Фото: Владимир Акимов / РИА Новости
Кямран Мамед оглы Багиров, первый секретарь ЦК Компартии Азербайджана. Фото: Владимир Акимов / РИА Новости Первый секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущёв. Фото: семейный архив Марии Косаревой / russiainphoto.ru
Первый секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущёв. Фото: семейный архив Марии Косаревой / russiainphoto.ru Открытка "Догоним Америку", художник А. Кокорекин, 1961 год. Фото: общественное достояние
Открытка "Догоним Америку", художник А. Кокорекин, 1961 год. Фото: общественное достояние