В прошлом тексте, опираясь на идеи Молера, впервые представленные русскоязычной публике в новой книге, мы выяснили, что у либерализма и коммунизма много общего. Но если сходства двух систем носят теоретический характер, то их различия – уже практический. Они заключаются в том, что вседозволенность либеральных государств способствует распространению социального явления, определяемого Молером посредством категории «мафия», тогда как социалистические государства склоняются к модели «ГУЛАГ» (которую мыслитель применяет не только к СССР): «“Мафия” для меня стала ключевым словом для обозначения “общечеловеческой” формы поведения, которая не ограничивается ни пространственными, ни временными рамками» (стр. 47), то есть речь идёт о системе власти, основанной на личных связях и, следовательно, предоставляющей определённые гарантии и конкретные ответы, по-настоящему значимые для жизни индивидов, которые, оплатив какую-то сумму или во всяком случае совершив какое-то «посвятительное» действие, становятся её частью, тем самым принимая правила игры. Таким образом, «мафия» укореняется в различных политических режимах (прежде всего в либеральных), давая, в отличие от них, реальные решения общественных вопросов и внося тем самым вклад в стабильность и социальную устойчивость, поскольку она основывается на лишённой иллюзий идее человека как существа, действующего преимущественно в собственных интересах. Недостаток «мафии» заключается в том, что она может перейти от клиентелистско-персоналистской системы к криминальной. Очевидно, что это определение применимо как к «правителям», так и к «подвластным»: в первом случае речь идёт о кастах и олигархиях, находящихся у власти (в либеральных режимах – предпринимателях и политиках), во втором – о феноменах, охватывающих как социальную солидарность и взаимопомощь (без посредничества государства), так и клиентелизм, коррупцию и в конечном счёте «мафию» в общепринятом смысле этого слова. В отличие от «мафии», для системы «ГУЛАГ» характерно то, что «решения, основанные на следовании абстрактным принципам, фатальны. Если некий орган власти решает, что все, у кого в имени больше двух “ф”, или все Овны по знаку зодиака должны быть ликвидированы, компьютер начинает поиск. Он помечает всех подходящих под заданные определения – этого невозможно ни исправить, ни избежать. По сравнению с этим в мафиозном обществе с его путаницей, случайностями и небрежностью есть свои преимущества» (cтр. 58). Однако мышление автора диалектическое, сложное, глубокое, поскольку даже в случае различий он указывает на сходства. Действительно, либерализм в силу своей абстрактности и преувеличенного понимания разума как безличной и «чистой» способности стремится к тому самому рациональному совершенству, выраженному в «ГУЛАГе». С другой стороны, Молер отмечает, что даже в государствах последнего типа сформировались «мафии», клиентские группы (и не только среди носителей власти). Иными словами, государство не может окончательно и полноценно осуществить воплощенную идеологию, и в этом случае в итоге несовершенное и человеческое, личные интересы начинают играть немаловажную роль.
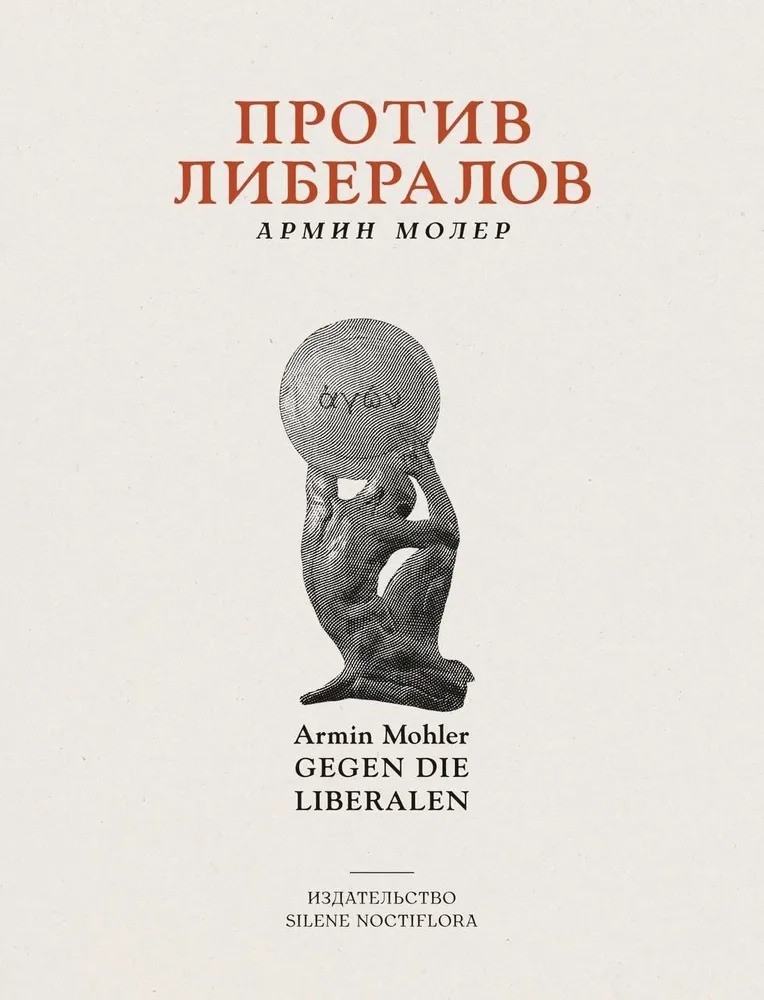 Книга «Против либералов». Фото: издательство SILENE NOCTIFLORA
Книга «Против либералов». Фото: издательство SILENE NOCTIFLORAНа данном этапе стоит остановиться на том, что Молер применяет категорию «ГУЛАГ» как к Третьему рейху, так и к СССР. При этом, разумеется, он не разделяет ныне популярную на Западе либеральную точку зрения, согласно которой тоталитаризмы якобы все одинаковы, потому что являются нелиберальными. Эта теория уравнивает всё, что можно путано охарактеризовать категориями «диктатура», «авторитаризм», «тоталитаризм»: от дворян, королей и императоров эпохи Старого порядка года до современных политических оппонентов, включая режимы XX века. Философ лишь констатирует последствия продвижения государством определённой идеологии: если она воспринимается как абсолютная имманентная истина, то её рациональное применение не оставляет места ни для произвола, ни для свободы – как в высоком смысле, так и в низком, в духе «мафиозного общества». Напротив, автор отвергает всякое упрощенчество, подчёркивая односторонность подхода своих (западных) современников к СССР: «Многие не замечали этого за пеленой своего жёсткого антикоммунизма – в отношении Советской империи мы слишком привыкли мыслить только в двух крайностях: либо она нас догонит и перегонит в своём развитии, либо же с грохотом рухнет в результате внутреннего коллапса или же вторжения извне. Этот взгляд был обусловлен приверженностью универсалистскому стилю мышления в духе мирового государства (или принятием желаемого за действительное) – стилю, который способен представить себе развитие событий только в широком, всеобъемлющем размахе. Люди с подобным мышлением, вероятно, даже не могут представить, что вещи и явления могут просто измельчать [курсив наш]» (стр. 60). В продолжении эссе Молер настаивает на этом глаголе, подчёркивая, что в СССР – как «внизу», так и «наверху» – существовали системы персоналистских и клиенталистских связей: и это подтверждается тем фактом, что в 1990-е годы новая система состояла из различных групп влияния, то есть из индивидов, объединённых общими интересами, достигаемыми путём применения специфических взглядов на вещи (очень часто зависящих от их профессии): «Так что Советская империя не была тем гигантским механическим колоссом, виртуозно играющим своими мускулами и металлическими жилами и в любой момент готовым к рывку, который так долго занимал воображение Запада. Скорее она сморщилась и съёжилась, словно яблоко, которое слишком долго пролежало нетронутым. Однако какая же сумятица началась в морщинах этого иссохшего плода! О том, насколько сблизились либеральный Запад и Россия, можно судить по тому, с каким воодушевлением русские поклонники перестройки подхватили те характерные для “общества вседозволенности” безумные идеи, которые в Нью-Йорке или Париже уже всем порядком наскучили. И более не видно такого государства-колосса, которое могло бы вновь сравнять всё с землёй» (стр. 63).



 Сбор средств на создание мемориала жертвам сталинских репрессий в рамках акции "Неделя совести", 1988 год. Фото: Игорь Михалев / РИА Новости
Сбор средств на создание мемориала жертвам сталинских репрессий в рамках акции "Неделя совести", 1988 год. Фото: Игорь Михалев / РИА Новости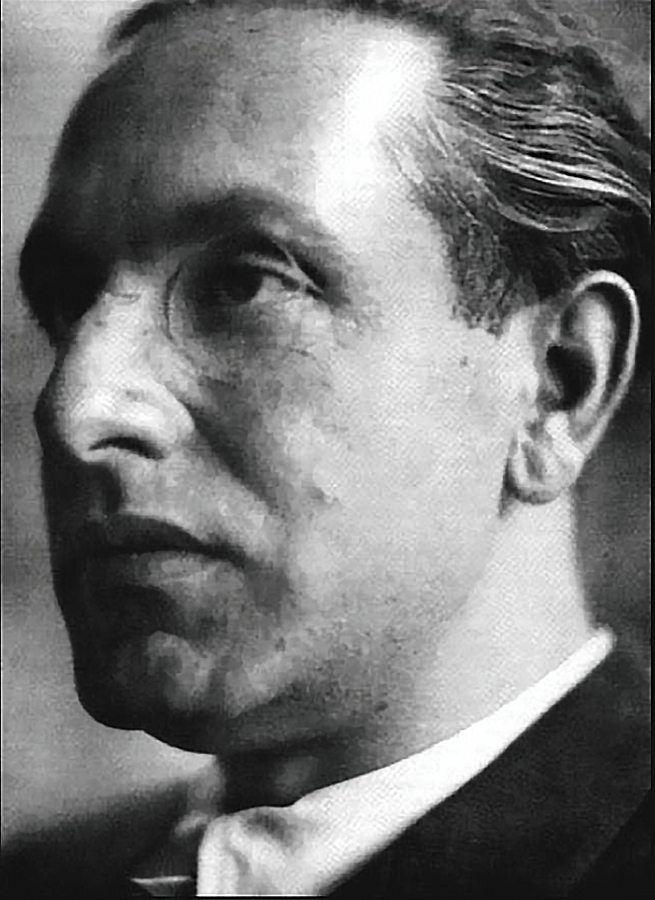 Юлиус Эвола. Фото: fondazionejuliusevola.com
Юлиус Эвола. Фото: fondazionejuliusevola.com