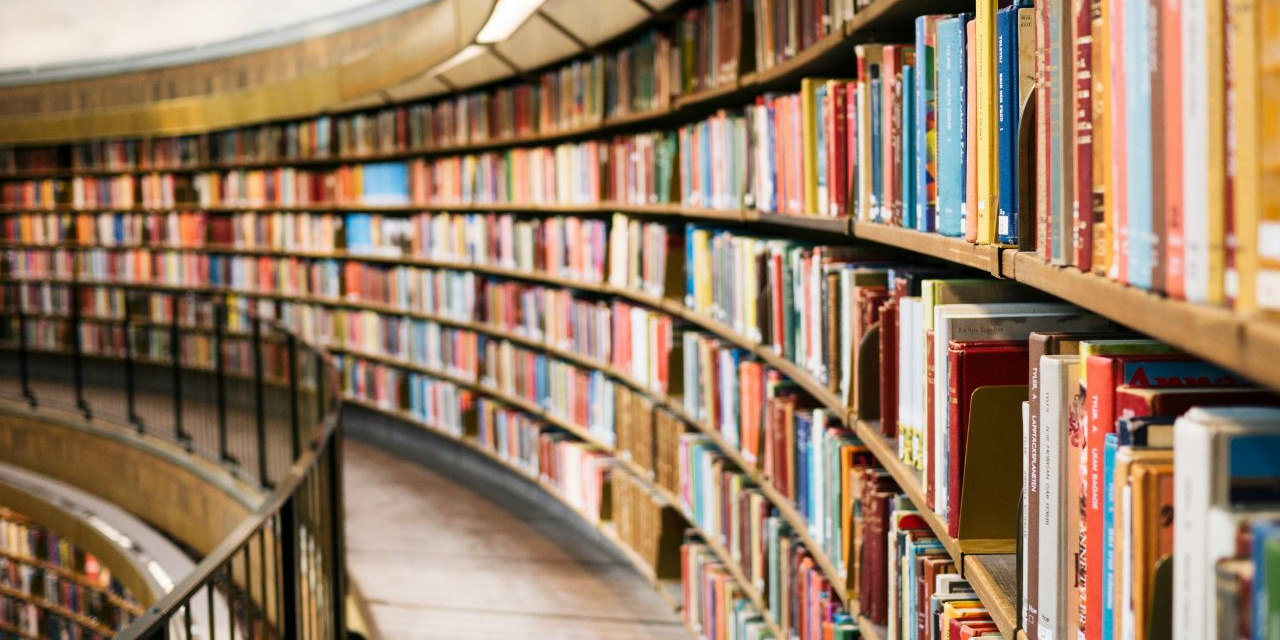Лязг стали о сталь на турнирах, трепет штандартов на ветру, тяжёлая поступь легионов растаявших империй, достойные верности или же кинжала в спину монархи. Добродетельные жёны, лживые куртизанки (и наоборот), залпы батарей многопалубных линкоров, жаркие абордажные схватки. Гильотины и лилии, парики и порох, кони и револьверы. Всё это умещалось на страницах исторических романов. Ещё полтора столетия назад это был один из ведущих литературных жанров, в котором хоть в раз в жизни стремился поработать каждый писатель. За минувшие с тех пор десятилетия многое изменилось, и хотя объёмы исторической беллетристики будто бы выросли – серия из пары десятков книг давно не редкость, сам жанр скорее измельчал.
Есть ли у него будущее? И если да, то какое?
Европейскую литературу история всегда интересовала особо. Строго говоря, вся европейская литература началась с художественного описания исторического сюжета.
Гнев, богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына, Грозный, который ахеянам тысячи бедствий соделал…
Да, речь об «Илиаде» Гомера, которая хотя и повествует о блаженных богах и о героях, однако опирается на канву реального исторического события. В дальнейшем греки породили не один исторический текст высокой художественности. Взять хотя бы «Анабасис» Ксенофонта – классическая история воинской чести, мужества и преодоления, которая вдохновляла многих более поздних авторов и по сей день вдохновляет писателей и кинематографистов. Однако «Анабасис» это скорее жанр автобиографии. То, что мы сегодня именуем исторической прозой и в особенности историческим романом предполагает дистанцию между автором и теми событиями, которые он описывает.
 Картина Иоганна Генриха Тишбейна «Гектор, зовущий на битву Париса». Фото: Августеум
Картина Иоганна Генриха Тишбейна «Гектор, зовущий на битву Париса». Фото: АвгустеумРоман в привычном нам смысле слова – жанр «выстреливший» в эпоху модерна, поэтому, минуя Средневековье с его жестами обратимся сразу к Новому времени. Георг Лукач в «Теории романа» отмечает, что возникновение жанра тесно связано с сопутствующим ему понятием «трансцендентальной бездомности». Индивид чувствует себя бездомным в мире, который больше не несет в себе очевидного смысла – прежняя целостность мира, характерная для предыдущих эпох, а в литературе для эпоса – распалась. Ведь для человека традиционного общества вопрос о смысле жизни не стоял на повестке дня. Жизнь определялась безусловной верностью религиозным ценностям, образом ведения хозяйства, унаследованным от праотцов, и членством в малых сообществах, составлявших набор основных идентичностей человека. Крестьянская община, цех, приход, принадлежность к аристократическому роду – всё это разрушилось за несколько поколений ввиду промышленной и транспортной революций, обусловивших массовое переселение людей в города. В огромных человеческих муравейниках модерна безликой массе вчерашних крестьян потребовались новые идентичности, новые формы самоорганизации, новые смыслы, среди которых и главный – новый смысл жить. Потому что ещё одним следствием урагана, потрясшего мир в XVII-XX вв., стал секулярный порядок, лишивший человека Бога, а с Ним и работавших многие поколения смыслов жизни.
В этом и рождается то самое чувство «бездомности в мире», очень близкое к тому, что позже Хайдеггер будет называть чувством «заброшенности». И вместе с этим рождается и новый тип героя – человек, стремящийся преодолеть эту бездомность и найти для себя смысл. Герой романа.
Под влиянием Лукача (впрочем, не только его) сложилась и жанровая теория Михаила Бахтина. В которой «монологическое» начало, характерное для ранних эпических форм и в котором всегда слышен лишь один голос – конкретного сословия, социальной общности, поколения, противопоставляется «диалогическому» – в нём уже звучат несколько голосов, представляющих несколько взглядов на мир. Взрывной рост популярности романа сопряжён с триумфальным вхождением в литературу диалогических форм. Это, вне всякого сомнения, совпадает с началом Нового времени, что обусловлено и исторически – именно в этот период в мировоззрении европейца появилось большое количество новых взглядов на мир. Реформация, Великие географические открытия, подъём буржуазии – всё это способствовало появлению многих новых точек обзора и разрушению прежней единственной.
Рождение же исторического романа пришлось на пик модерна – XIX век, именуемый также «веком национализма». Англо-американский социолог Бенедикт Андерсон именовал нации «воображаемыми сообществами». То есть существуют сообщества «лицом к лицу» – в которых все участники друг друга знают лично, к ним можно отнести ваших коллег на работе, школьный класс, соседей по лестничной клетке. И есть сообщества, существующие исключительно в вашем воображении – при всём желании, вы никогда не встретите всех русских на свете, однако это не мешает вам верить, что они есть и относить себя к оным. Средневековье по Андерсону было временем сообществ «лицом к лицу» – деревенских общин, ремесленных цехов, приходов. В западной Европе единственным воображаемым сообществом была Католическая церковь, которая опиралась на соответствующие инструменты воображения – общий язык (латынь), набор ритуалов и священный текст.
Приход нового времени всё изменил. На смену доминированию католицизма пришла реформация, вскоре за ней и «светскость», а изобретение Иоганна Гуттенберга – печатный станок – обусловило появление «печатного капитализма». Именно он и стал главным толчком для формирования новых воображаемых сообществ – наций. Ведь рынок литературы на латыни оказался исчерпан быстро, и поиск прибыли требовал новой – на национальных языках. Печатный капитализм создал возможность для людей, проживающих на разных концах, скажем, Франции, читать по утрам одну и ту же прессу, а в течение жизни – одни и те же книги.
 Иоганн Гуттенберг. Фото: общественное достояние
Иоганн Гуттенберг. Фото: общественное достояниеПомимо печатного капитализма нациестроительству, то есть укреплению национальной идентичности, способствовали и другие инструменты. Среди них всеобщее образование, появление государственной символики, призывная армия, музеи и географические карты. Всё это стимулировало появление в головах людей стойкого образа страны и людей её населяющих.
Среди этих инструментов оказался и роман. Нация, по мысли Андерсона, воображается через истории, а формы лучше, чем роман, для этого не придумаешь. Роман создаёт пространство, в котором соседствуют миры крестьянства, буржуазии и аристократии, сплетаясь в единое повествование. Они действуют в едином времени и в единой географии. Роман даёт всему этому единую эмоциональную связку, которая превращается в мост между народом и представителями элиты, чего не могли позволить до-романные формы литературы.
И хотя это характерно для любого романа эпохи модерна, для исторической беллетристики это актуально вдвойне. Первый исторический роман, хотя первенство это условно, вышел из-под пера сэра Вальтера Скотта в 1814 году и назывался «Уэверли или шестьдесят лет назад». Из названия видно, что великий шотландец выбрал для своего текста события, уходящие на поколение в прошлое – то есть выдержал ту самую необходимую дистанцию. Повествование выстроено вокруг истории якобитского восстания 1745 года, вокруг близкой автору шотландской тематики. Главный герой, повоевав и за правительственные войска, и за восставших, в конце концов обретает семейное счастье, тихую и спокойную жизнь. Герой взаимодействует с разными социальными слоями и вплотную соприкасается с английским, шотландским и шире – британским политическим мифом.
Впрочем, главным произведением Вальтера Скотта стал другой роман. Текст, создавший канон для романа о Средневековье и канон для романных рыцарских приключений. Отзвуки «Айвенго» прошли через множество произведений – они отозвались у Сенкевича, немного у Дрюона, а потом ворвались в современную массовую культуру вместе с сериалом «Игра престолов».
Значение «Айвенго» для британского политического мифа трудно переоценить, ведь в сюжете действуют едва ли не главные его герои. Начиная от персонажа средневековых баллад Робина Гуда, ставшего ключевым символом «английскости» далеко за пределами Соединённого королевства, и заканчивая Ричардом Львиное Сердце, исторические оценки правления которого разнятся, но символическое значение как короля-рыцаря неоспоримо. Не стоит забывать и про Иоанна Безземельного при котором началась история такого документа как «Великая хартия вольностей», а с неё, в сущности, стартовала история английского парламентаризма.
 Картина Иоханнеса Герца «Награждение Айвенго». Фото: общественное достояние
Картина Иоханнеса Герца «Награждение Айвенго». Фото: общественное достояниеНе менее значим «Айвенго» и в своих анахронизмах, главный из которых – в установленном автором на центральное место конфликте англо-саксов и нормандских завоевателей. Ко времени действия романа с битвы при Гастингсе минуло уже более ста лет и противоречия между завоевателями и завоёванными были по большей части сглажены, особенно среди элиты. Но Вальтер Скотт – шотландец, который пишет роман в XIX веке и поэтому не может пренебречь национально-этнической стороной повествования. В романе сакс Айвенго верно служит нормандскому королю Ричарду, и этот король достоин проявленной к нему верности. То есть поверх этнических дрязг торжествует надэтническая, по сути британская, идентичность.
Подобное стремление народа рассказать «историю о самом себе» проявляется едва ли не в каждом историческом романе XIX века. И эти истории сходу «залетают» и в национальные мифы. Виктор Гюго своим романом превращает в символ Франции Нотр-Дам-де-Пари, Лев Толстой формирует мейнстримное восприятие обывателем войны 1812 года, Генрик Сенкевич создаёт целое летописание польской истории, причём начиная прямо с поздней античности, включив аллюзии и намёки на «польскость» даже в роман о первых христианах «Камо Грядеши».
Этот список можно продолжать бесконечно, припомнив Фенимора Купера, описавшего в своей знаменитой пенталогии истоки «американскости» с одной стороны, и трагедию распада родоплеменного общества с другой. Или же окинув взглядом традицию армянского исторического романа XIX века, в которой писатели Церенц, Раффи и Мурацан, опираясь на средневековые сюжеты, создавали романы с инструментальной политической функцией – вдохновлять соплеменников на национально-освободительную борьбу.
То был золотой век исторического романа. Неизвестно, сколько бы это продлилось, если бы не Первая мировая война. Она положила конец благоденствию этого жанра, в одночасье разрушив околоромантические представления о героической борьбе за национальные интересы. Восторженный национализм европейских народов, не в последнюю очередь державшийся и на исторической беллетристике, получил увесистую пощёчину на предельно не романтичных и мрачных полях Великой Войны. Траншеи от моря и до швейцарской границы, копошащиеся в грязи на их дне крысы, брюшной тиф и бесконечная смерть. Средняя продолжительность жизни пехотного офицера на Западном фронте составляла несколько недель, шансы вернуться с этой войны живым были крайне малы. Многие из творцов будущей послевоенной литературы вернулись из этой бойни буквально чудом, Дж. Р.Р. Толкин и А. Милн служили связистами, К.С. Льюис получил ранение «блайти» – так на фронтовом жаргоне называли тяжелые раны, с которыми отправляли лечиться в Англию.
То есть главной причиной разочарования стало несоответствие ожиданий и суровой реальности. После стальных гроз Первой Мировой героические повествования о национальной истории не исчезли, но стремительно пали с литературного олимпа. С тех пор исторический роман хотя и выжил, может быть по числу страниц даже стал представлен в ещё большем количестве, однако в число респектабельных жанров так и не вернулся.
Впрочем, старый исторический роман не умер бесплодно, напротив, подобно зерну он дал жизнь новым жанрам. Так, триумфально взлетевшее после Второй Мировой фэнтези, чем не «история народа, рассказанная о самом себе»? Упомянутый выше Дж.Р.Р. Толкин начинал создавать своё Средиземье, как «мифологию для Англии». И хотя великие фэнтезийные произведения от исторических романов имеют серьёзные отличия, они черпают вдохновение из той же сокровищницы древних мифоэпических текстов и родной истории. В сущности, исторический роман был характерен для рационалистического и позитивистского XIX века, а фэнтези стало знамением мистического и ньюэйджевого XX-го.
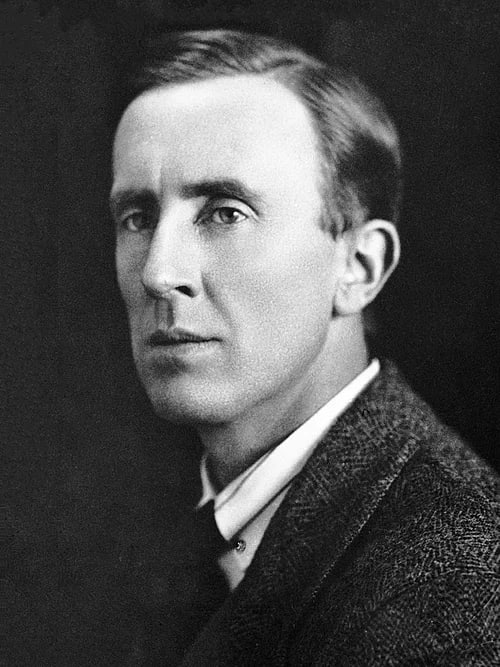 Дж.Р.Р. Толкин. Фото: общественное достояние
Дж.Р.Р. Толкин. Фото: общественное достояниеДругая реинкарнация исторического романа – магический реализм. Многие черты исторической прозы прорастают в произведниях Маркеса и Борхеса. «Сто лет одиночества» – вполне себе исторический роман, просто он посвящён истории выдуманного государства. Вернее даже не выдуманного, а магически переосмысленной усреднённой латиноамериканской страны.
В современной русской литературе появился даже термин «неисторический роман», которые применяют к текстам, тоже рефлексирующим над прошлым, однако не слишком похожим на классику исторического романа. Сюда относят главный текст Евгения Водолазкина «Лавр», который впрочем можно при желании записать и в фэнтези, и в магический реализм. В той же серии выходят и документальные романы Леонида Юзефовича, в которых сочетается высокий уровень художественности и, в то же время, документалистская точность. На стыке исторического романа и фэнтези работает Алексей Иванов в своих книгах «Сердце Пармы», «Золото бунта», «Тобол».
Таким образом, жанр продолжает жить, просто смешиваясь с другими, меняя окрас и поворачиваясь к читателю другими гранями. Если мы вслед за Бенедиктом Андерсоном будем воспринимать роман как историю, которую нация рассказывает о самой себе, то сегодня, когда фукуямовский «конец истории» явно поставлен на паузу, когда главы государств обсуждают на саммитах и в интервью события летописного Средневековья, когда в реальную жизнь возвращаются знамёна со Спасом, Георгиевские кресты и добровольческие батальоны… Когда как не сегодня снова необходимо обратиться к сюжетам, с помощью которых мы можем определить самих себя?