Как утверждал Готфрид Лейбниц, «лёгкие глотки научного знания отделяют человека от религии и Бога, но более глубокие – снова возвращают его к ним».
14 апреля в храме апостола и евангелиста Иоанна Богослова Санкт-Петербургской Духовной Академии отпевали выпускника и многолетнего преподавателя петербургских духовных школ, кандидата физико-математических наук протоиерея Кирилла Копейкина (07.06.1959-09.04.2025). Выпускника физического факультета Ленинградского госуниверситета по кафедре теории ядра и элементарных частиц, автора диссертации по кинетике нуклеации, множества публикаций по теме соотношения науки и религии.
Критики, естественно, с сарказмом отметили, что отец Кирилл «был последним кандидатом физматнаук, который стал священником в РПЦ» (мысль о том, что теперь уж точно в русском православии преобладающей «климатической зоной» становится интеллектуальная пустыня – конечно, не может не напрашиваться)…
 Отпевание протоиерея Кирилла Копейкина. Фото: Saint-Petersburg Theological Academy / Flickr
Отпевание протоиерея Кирилла Копейкина. Фото: Saint-Petersburg Theological Academy / FlickrКажется, последняя сохранившаяся его видеозапись – это видео с ютуб-канала «Пифагорейская Вселенная». Из выступления отца Кирилла на круглом столе журнала «Идеи и идеалы» (не стоит, наверное, говорить пафосные слова про «завещание»): «Спасибо большое, мне очень приятно быть с вами сегодня. Я родился в Советском Союзе, в очень материалистическое время, и во времена моей молодости физика была на подъёме. Физики ковали ядерный щит Родины, и физика была таким островком свободы в советском мире. Я думаю, такой свободной атмосферы, как на физических факультетах, в советское время нигде не было. И мне хотелось заниматься физикой, и именно физикой ядра и элементарных частиц. У меня изначально было ощущение того, что человек рождён для того, чтобы познать истину. А поскольку мы живём в физическом мире, то познать истину – это значит понять, как всё устроено, причём понять на фундаментальном уровне. Было ощущение, что физика прикасается к сокровенным тайнам бытия. Но когда я поступил на физфак, то у меня появилось некоторое разочарование, потому что я увидел, что многие физики просто занимаются профессиональной деятельностью, и далеко не у всех есть потребность осознать научный поиск именно как поиск каких-то фундаментальных первопричин. Я тогда ещё не был человеком религиозным, но, как я сейчас понимаю, для меня этот поиск истины через физику был действительно религиозным поиском. И мне тогда очень не хватало понимания того, что познание мира через науку и через математику, которая является языком науки – это в итоге познание Бога. Все знают слова Галилея о том, что Книга Природы написана на языке математики. Но еще до Галилея Кеплер писал: те законы, которые управляют материальным миром, лежат в пределах человеческого разума. Создавая нас по своему подобию, Бог хотел, чтобы мы могли со временем разделить с Ним Его идеи об устройстве мира. Его мысль разовьёт и продолжит в Галилей: когда мы познаём мир при помощи математики, наше познание мира по объективной достоверности становится равно божественному. Насколько сильный тезис! Из-за этого, собственно, и произошел конфликт Галилея с инквизицией. Это была претензия науки на то, что она может познавать истину. Не просто описывать мир с человеческой точки зрения, нет – это претензия на то, что мы фактически можем встать на точку зрения Бога».



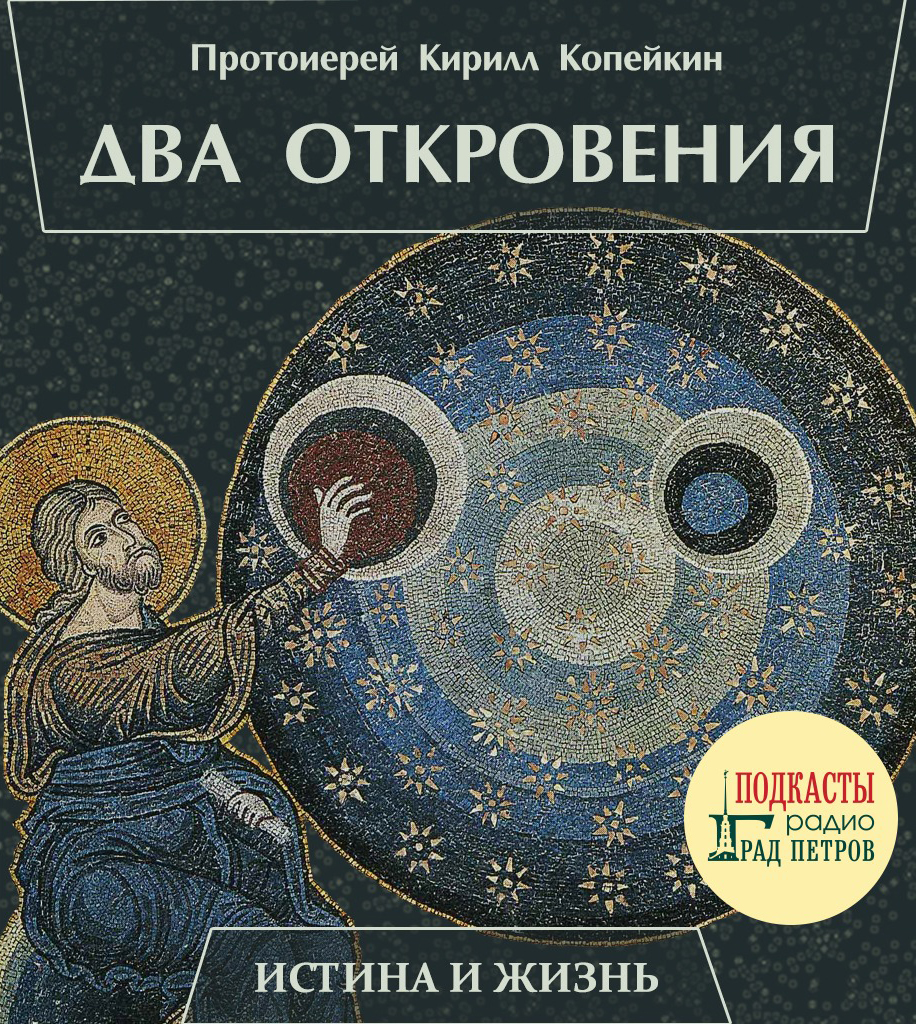 Обложка аудиокниги о. Кирилла Копейкина «Истина и жизнь». Фото: издательство "некоммерческий фонд «Радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров»"
Обложка аудиокниги о. Кирилла Копейкина «Истина и жизнь». Фото: издательство "некоммерческий фонд «Радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров»"