* * *
Будущий мученик родился в 1878 году в городе Одессе в семье дворянина Михаила Ивановича Ковшарова и его супруги Елизаветы Ивановны.
В 1899 году Иван Ковшаров окончил гимназию, а в 1903-м – юридический факультет Новороссийского университета со званием кандидата права.
И под влиянием «одесского златоуста» Осипа Яковлевича Пергамента – преподавателя римского права Новороссийского университета и первого одесского председателя Совета присяжных поверенных – решил связать свою жизнь с адвокатской деятельностью.
С 1903 года Ковшаров работал в Одессе. Известно, что он был одним из защитников матросов – участников восстания на броненосце «Потёмкин».
В январе 1906 года Ковшаров переехал в Санкт-Петербург, где стал помощником присяжного поверенного Ксаверия Ивановича Валицкого.
Сохранилось его прошение в Санкт-Петербургский столичный мировой съезд с просьбой получить свидетельство на право быть поверенными по судебным делам, на котором остался автограф его поручителя Петра Петровича Мельникова: «Удостоверяю, что помощника присяжного поверенного И.М. Ковшарова я знаю в нравственном отношении с самой лучшей стороны…»
Примерно в это же время Иван Ковшаров стал прихожанином Александро-Невской лавры, где он познакомился с Василием Соколовым – юрисконсультом лавры. И Ковшаров на общественных началах стал помощником юрисконсульта, взяв на себя всю работу по подготовке и ведению дел лавры в судах.
В 1908 году Иван Ковшаров стал присяжным стряпчим при столичном коммерческом суде, а с 1911 года – присяжным поверенным Санкт-Петербургского округа Судебной палаты.
* * *
В апреле 1912 года юрисконсульт Александро-Невской лавры Василий Соколов скончался, но в день своей кончины успел продиктовать завещание: «Вследствие тяжёлого недуга не могу быть полезным обители, прошу уволить и не отказать в назначении на моё место моего сотрудника – присяжного поверенного Ивана Михайловича Ковшарова. Человек трудолюбивый, работал по делу Лавры и СПб Духовной Консистории два года. Ему же переданы все дела Лавры. Он их знает основательно, которому поручаю подать настоящее прошение».
Правда, Духовный собор Александро-Невской лавры рассудил иначе. И на место юрисконсульта был назначен другой присяжный поверенный – В.В. Пашковский, который успел себя зарекомендовать во время многочисленных судебных тяжб по поводу земель, принадлежавших Воскресенскому женскому монастырю.
Только в 1918 году, когда на церковь начались настоящие гонения, Иван Ковшаров стал главным юристом лавры.
Также весной 1918 года на Петроградском епархиальном съезде духовенства и мирян Ивана Ковшарова избрали комиссаром по епархиальным делам «для представительства и защиты общих прав и интересов» Петроградской епархии.
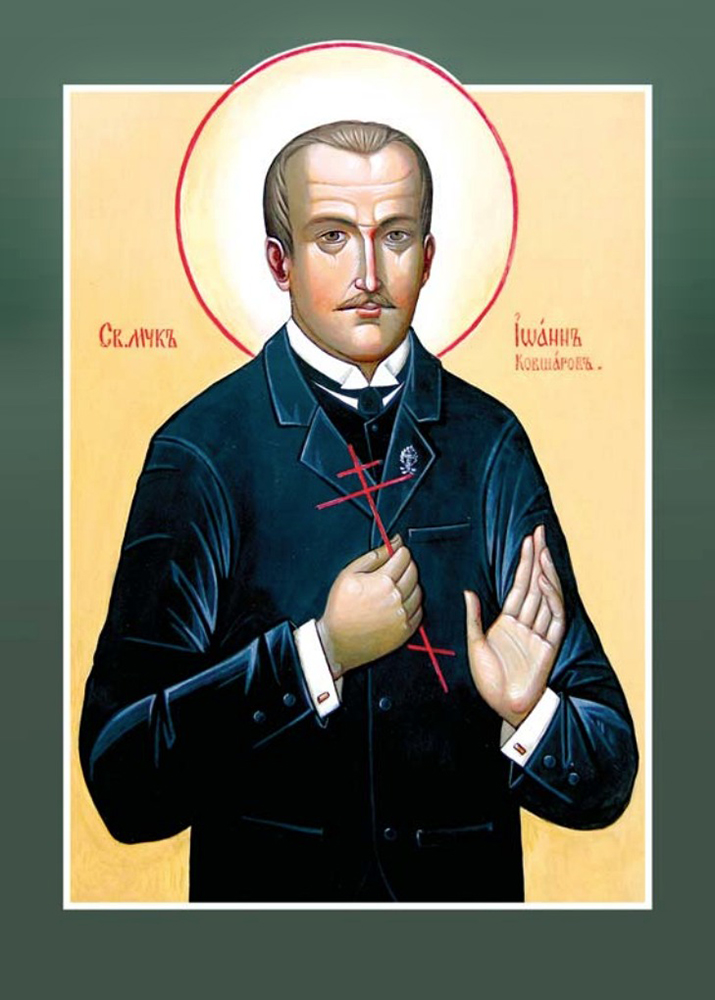 Икона с изображением новомученника Иоанна Ковшарова. Фото: vladimirskysobor.ru
Икона с изображением новомученника Иоанна Ковшарова. Фото: vladimirskysobor.ru* * *
Свои обязанности Иван Михайлович выполнял на совесть. Ежедневно он принимал и консультировал представителей приходов и церковных учреждений, писал тексты заявлений, протестов, ходатайств.
Так, в архивах сохранилось его обращение к властям по поводу закрытия собора Петропавловской крепости: «Закрытие собора хотя бы на 2–3 месяца оскорбляет религиозные чувства большой массы народа, привыкшего исстари беспрепятственно посещать собор крепости для удовлетворения своих религиозных нужд. Во имя интересов народа народная власть, казалось бы, не должна ставить народу препятствий в этом отношении».
Другое обращение касалось народных пожертвований: «Ни в каком случае не может быть допущена передача „кружечного капитала“, составившего из народных приношений, в ведение Комиссариата имуществ Республики, так как это является нарушением воли народа, приносившего свои жертвы не для того, чтобы им было дано назначение на иные цели, кроме тех, на которые жертвовались народом деньги».
Ещё одно дело, которое вёл Ковшаров, касалось национализации «Дома трудолюбия», построенного при Морском Никольском соборе в Кронштадте. Именно из-за своей твёрдой позиции он снискал себе немало врагов среди новой власти.
* * *
В сентябре 1919 года Ивана Ковшарова арестовали в первый раз – по «делу кадетов» (партии конституционных демократов). Правда, через три дня его освободили, выяснив, что в этой партии Ковшаров никогда не состоял. Более того, во время выборов во Всероссийское Учредительное собрание Ковшаров являлся кандидатом от блока партии народных социалистов и трудовиков, от этого блока он шёл и в состав Рождественской районной думы.
В мае 1921 года Ивана Михайловича арестовали во второй раз – и вновь по обвинению в связях с кадетами. Подоплёку этого дела открыл в своих дневниках митрополит Григорий (Чуков) – в то время ректор Петроградского Богословского института и один из подсудимых по «Петроградскому делу».
Сторонники «обновленческой церкви» при поддержке ГПУ решили захватывать храмы через аресты членов приходских советов. Дело в том, что большевистский Декрет об отделении церкви от государства постановил, что «сами храмы и реквизит для религиозных обрядов» должны быть переданы в пользование религиозным общинам на основании специального договора. Эти общины и были нанимателями священников. Стало быть, решили обновленцы, если поставить во главе приходской общины своего человека, то можно отстранить одних священников и назначить других.
Митрополит Григорий (Чуков) писал, что обновленцы и ГПУ усмотрели в объединении приходов ради защиты интересов православных верующих «определённое намерение кадетствующих мирян вести политическую пропаганду; в приходских советах – явные захваты власти и главное – той же самой кадетствующей партией мирян».
По обвинению в связях с кадетствующими чекисты хватали ни в чём не повинных людей, не зная затем, что вообще предъявить на суде многим арестованным. В итоге в июне 1921 года дело было прекращено «за недоказанностью обвинения».
* * *
В 1922 году под видом помощи голодающим в Петрограде началась реализация Декрета ВЦИК «Об изъятии церковных ценностей», направленного на полное уничтожение Православной церкви в России.
 Изъятие церковных ценностей в 1922 году. Фото: РИА Новости
Изъятие церковных ценностей в 1922 году. Фото: РИА НовостиВ ответ по инициативе митрополита Петроградского и Ладожского Вениамина (Казанцева) прошли переговоры с Петроградским Советом, как провести изъятие ценностей с минимальным для верующих ущербом. В состав группы переговорщиков вместе с самим митрополитом вошли архимандрит Сергий (Шеин), миряне Юрий Новицкий и Иван Ковшаров.
Митрополит Вениамин представил в комиссию Совета помощи голодающим заявление, в котором отмечалось: «Церковь готова пожертвовать для спасения голодающих всё своё достояние; для успокоения верующих необходимо, чтобы они осознавали жертвенный, добровольный характер этого акта; для этой же цели необходимо, чтобы в контроле над расходованиями церковных ценностей участвовали представители от верующих. Если эти условия не будут приняты Петроградским Советом, митрополит заявил, что не даст своего благословения и осудит насильственное изъятие ценностей».
* * *
Иван Ковшаров разработал специальную инструкцию для приходского духовенства, как вести себя во время изъятия ценностей. Отчётливо понимая подоплёку происходящего, он изо всех сил старался сохранить остаток верных и не дать большевикам повода для усиления карательно-репрессивных мер. В инструкции говорилось: «Ввиду участившихся случаев посещения действующих и закрытых храмов разными лицами для проверки храмовых описей и даже изъятия священных предметов преподаются следующие руководящие указания, как поступать в таких случаях. При этих посещениях обязательно должен присутствовать священник с пятью или в крайнем случае тремя представителями прихожан местного храма, как это требуется инструкцией по изъятию церковных ценностей. Где при закрытых храмах своего священника нет, лица, ведающие храмом, должны вызвать благочинного или ближайшего приходского священника.
Священник, входя в храм, должен предупредить, что храм, хотя бы и закрытый или взятый под охрану, как имеющий музейное значение, для верующих, пока в нём остаётся святой престол, священный и всякое не соответствующее его святости поведение является оскорблением религиозного чувства верующих…
Если же посетители на предупреждение священника не обратят внимания, войдут в святой алтарь и там будут вести себя неблагоговейно, то в таком храме и алтаре, прежде чем начать службу после такого посещения, должно быть совершено малое освящение…
Святыни храма закрытого (святые мощи, святой антиминс, святые запасные дары, святое миро) должны быть взяты священником с собой и переданы в ближайший приходской храм.
Священные сосуды и освящённые предметы священник по церковным канонам и распоряжению церковной власти не может отдать посетителям. Если же они будут настойчиво требовать, то должен заявить: берите сами. В самом акте изъятия должно быть отмечено, что перечисленные церковные священные предметы взяты самими посетителями…»
Инструкция произвела на властей двоякое впечатление. Благодаря тому, что во всех 14 церквах благодаря разъяснительной работе Ивана Ковшарова изъятие церковных ценностей прошло спокойно, он даже получил благодарность от районных властей.
Постановлением же ВЧК вся четвёрка переговорщиков, а с ними и более 80 священнослужителей Петрограда, были арестованы. Основание: «организация в преступную контрреволюционную группу, поставившую себе целью борьбу с советской властью».
И главное обвинение против Ковшарова состояло именно в сопротивлении изъятию церковных ценностей.
* * *
Из допроса Ивана Ковшарова:
«Раньше, до революции, вы имели какое-нибудь отношение к церкви?
– Я был верующим человеком с малых лет.
– Какую-нибудь деятельность вы проявляли?
– До того момента, пока не произошла революция, пока не была восстановлена приходская жизнь, деятельность мирян не могла проявляться.
– Теперь скажите, как вы себе мыслите: эти ценности принадлежат государству, которое их поручило во временное пользование верующим?
– Безусловно, государству. Это народное достояние, отданное по закону 1918 года в пользование верующим».
* * *
К процессу привлечена была масса народа. Людей хватали без разбору: за «участие в толпе» при беспорядках во время изъятия церковных ценностей, за распространение воззваний митрополита… Хватали вообще кого вздумается. Беспрецедентное судилище, похожее на трагический театр абсурда, продолжалось в течение 25 дней. Процесс явно был показательным, вход был как на зрелище – по билетам, выданным в Ревтрибунале, по партбилетам (РКП) и даже по студенческим удостоверениям. О ходе самого Петроградского процесса 1922 года можно судить по дневнику митрополита Григория (Чукова).
 Подсудимые по делу об изъятии церковных ценностей, июнь 1922 года. Фото: общественное достояние
Подсудимые по делу об изъятии церковных ценностей, июнь 1922 года. Фото: общественное достояние***
29 мая / 11 июня 1922 г. Воскресенье
Вчера был первый день суда, возвратились поздно, уставшие, и я, наскоро позакусив, уснул, отложив запись на сегодня. Официально суд назначен был в 3 часа дня; начался ещё позднее, а между тем нас направили из тюрьмы (пешком, под конвоем) в 10 часов утра. Погода прекрасная, шли тихо (из-за сердечной болезни о. Союзова). По пути иные незнакомые кланялись, иные крестились, иные грустно качали головой, иные даже плакали. На площади перед зданием бывшего Дворянского собрания уже собралась порядочная толпа, встретившая нас цветами, подарками (мне передали цветы и булку). Шум, плач. Увидел нескольких своих прихожан и взволновался…
Провели в общую. Стали подходить из других тюрем, с «воли». В конце концов набралась целая комната.
Явились защитники, распределившие роли и подзащитных, беседовали с нами.
Явился суд, и начались предварительные формальности, отнявшие полдня. Всего 87 человек обвиняемых, 15 человек защиты, 4 обвинителя (Крастин, Красиков, Лещенко и Драницын)...
1/14 июня 1922 г. Среда. 9 часов утра
Вчера поздно вернулись. Целый день мучили допросом митрополита и только вечером около часу Юрия Петровича Новицкого. Допрос митрополита производили и суд, и обвинение, и защита. Приехавший из Москвы Смирнов вёл себя (от обвинения) настолько хулигански, так издевался, так был настроен разбойнически, что я удивлялся терпению митрополита. Защитник в одном месте прервал и указал на оскорбительность…
3/16 июня 1922 г. Пятница. 10 часов утра
Вчера допрашивали меня. С утра продолжался допрос Елачича – слабо. Потом Ковшарова – порядочно, продолжался 2 с половиной часа.
4/17 июня 1922 г. Суббота. 10 часов утра
Особенно обрадовались обвинители, когда заполучили такого зверя, как архимандрит Шеин – член Думы, член Собора, националист. Драницын имел нахальство спросить, по внутренним ли искренним побуждениям он пошёл в монахи. На это о. Сергий ответил: «Я считаю подобный вопрос для себя оскорбительным». Как ни возились, но ничего, в сущности, поделать не могли...
5/18 июня 1922 г. Воскресенье. Около 8–9 часов вечера
Сегодня отдых; время проводим в тюрьме, отдыхая от сутолоки, табачного дыму и волнений, вызываемых нашими обвинителями, из которых Смирнов – какой-то дегенерат, нахал, и по натуре и по виду – палач. Другой – Красиков, говорят, бывший помощник присяжного поверенного, алкоголик, пропивший совесть и потерявший стыд. Третий, Драницын, – из духовного звания, бывший преподаватель, теперь «красный» профессор, дурак порядочный, чванный и тоже бессовестный. Четвёртый, Крастин, – наиболее приличный и приемлемый из всех.
Смирнов старается определённо издеваться, иногда грубо и нестерпимо. Это особенно чувствовалось в самом начале, при допросе митрополита…
11/24 июня 1922 г. Суббота. Утро
Каждый день не обходится без инцидентов. Вчера вечером допрашивали двух священников – настоятелей Дьяконова и Бобовского, и оба много напутали, забравшись в дебри собственного «отношения» к письмам митрополита. Смирнову и Красикову только этого и нужно было. Впечатление ужасное, и просто стыдно за таких настоятелей. Вот наука, кому это следует знать, как надо быть осторожным и разборчивым в выборе ответственных лиц.
11/24 июня 1922 г. Суббота. 8 часов вечера
Сегодня суд закончился раньше – в 7.15 мы уже были дома. Подсудимые все допрошены, и начинается допрос свидетелей. Перед этим обвинители выкинули трюк: заявили, что просят об изменении меры пресечения целому ряду лиц об освобождении из-под стражи (в том числе Бычкова и Союзова), а с другой стороны – о заключении под стражу Елачича, Огнева и Кедринского. Защита тоже сделала заявление. В результате освободили 19 человек и посадили троих.
В конце произошёл печальный инцидент. Обвинитель Смирнов (московский), нахал и хам, из булочников, натаскавшийся говорить, хотя и с большими неправильностями, конечно, не воспитан и не разбирается в выражениях. Гуровичу он бросил обвинение в передёргивании; тот, как и вся защита, протестовал, но ему всё нипочем. Он не понимает оскорбления, заключающегося в этих словах, не понимает даже, что это термин шулерский, как объяснил ему Бобрищев-Пушкин, и в сознании своей «невинности» нагло отстаивал свою правоту и своё право и в будущем прибегать к таким же терминам. Что поделаете с такой публикой...
Суд – сами коммунисты, конечно, в силу партийной дисциплины поддерживают своего, и вот – «справедливость»!.. Где тут святое имя правды? Возможно ли беспристрастие? И можно ли даже думать о том, что наша невиновность может обнаружиться на подобном суде? Конечно, нет. Совершенно ясно, что мы все, без тени вины, будем осуждены, и осуждены жестоко, как враги пролетариата…
18 июня/1 июля 1922 г. Суббота. Утро
Вчера нас позорили. Нарочно вход был без билетов, нарочно привели и командировали коммунистов на речь Смирнова. Этот московский гастролёр ругался, кричал, стучал, грозил, потрясал и в конце концов охрип. Кажется, натащил все ругательства. И лжецами, и обманщиками величал, и трусами, и чего-чего только ни нашёл в нас… В конце концов, разобрав Патриарха, Митрополита, Новицкого, Ковшарова, Шеина, Огнева, Чельцова, меня, Богоявленского, Карабинова, Зинкевича, Преосв. Венедикта, Петровского, Бычкова, Бенешевича, Парийского и Елачича, требовал ко всем этим 16 человекам высшей меры наказания. Половина зала аплодировала (что несколько раз делалось и во время речи).
23 июня / 6 июля 1922 г. Четверг
Совершилась великая несправедливость: мы – 10 человек – осуждены на расстрел…
Взяли нас из III-го исправдома в 3 часа дня. Ждали мы до 9 часов вечера. Защитники приходили много раз, успокаивали, советовали «не бояться бумаги», «не бояться сегодняшнего дня», убеждали, что «окончательный итог будет более или менее благополучен»...
Наконец в 8 3/4 часа вечера нас пригласили в зал. Там была масса народа, много охраны. Мы на этот раз тоже вышли не обычно, а сначала во главе с митрополитом духовенство, потом – миряне...
 Обвиняемые по делу об изъятии церковных ценностей садятся в автомобиль после окончания судебного процесса 1922 года. Фото: общественное достояние
Обвиняемые по делу об изъятии церковных ценностей садятся в автомобиль после окончания судебного процесса 1922 года. Фото: общественное достояниеТрибунал долго читал обвинительный приговор. Уже по началу, по мотивировке было видно, что осудят. Вопрос был только в том, кого и как. Наконец председатель дошёл и до этого. Сначала обмотивировал отдельно – Владыку митрополита, Новицкого, Ковшарова, Богоявленского и Чельцова. Потом перечислил сразу всех других – Чукова, Плотникова, Елачича, Огнева, Шеина, Петровского и Бычкова, и в качестве обвинения указал, что мы: 1) составляем активную группу членов Правления, 2) принимали активное участие в Правлении, 3) разрабатывали там вопросы о противодействии изъятию церковных ценностей с целью возбуждения народных масс до ниспровержения Советской власти. И в заключение сообщил определение Трибунала, что митрополит, Новицкий, Ковшаров, Богоявленский, Чельцов, Чуков, Плотников, Елачич, Огнев и Шеин подлежат высшей мере наказания – расстрелу. Другие – кто на 5 лет (Парийский), кто на 3 года (Бычков, Союзов, Кедринский), кто на 6 месяцев. И целая большая группа, в том числе Бенешевич, Карабинов и Зинкевич, или оправданы, или осуждены условно (как Левицкий) и отпущены на свободу.
В зале заседания – истерика. Трибунал добавил ещё о 48-часовом сроке и прочее тому подобное и удалился, а нарочно приглашённые разные члены Коммунистических курсов и т.п. стали неистово аплодировать смертному приговору! Боже! Надо потерять все высшие человеческие чувства, чтобы приветствовать осуждение на смерть... Вот что воспитывает в массах коммунизм, хвалящийся идеями равенства и братства! – воспитывает чувство гнева и ненависти, отравляет ими нацию (с той и другой стороны) и думает, что этим путём достигается благополучие!..
Нас – «»смертников«» – взяли отдельно и отвезли новой дорогой в I-й исправдом. Сопровождали два автомобиля – с вооружёнными солдатами и чекистами. Здесь нас записали, опросили, обыскали и усадили в камеры смертников, в первом этаже, по двое. Мы – с Юрием Петровичем.
Вот провели и первую ночь. Беседовали об этом кошмарном деле, о всей искусственной его вздутости, о полной невинности, о бесполезности всей процедуры суда: ведь в обвинительном приговоре упомянуто всё, что опровергнуто показаниями, сохранены даже все опечатки и ошибки в датах, в наименовании отдельных лиц. Словом, полное невнимание ко всему, выявленному в пользу подсудимых, и, наоборот, внесение в приговор того, что не в их пользу – с точки зрения обвинения; это членство в Думе Шеина, сенаторство Огнева и тому подобные глупости, которыми, хотя бы для виду, надо было вздуть обвинение и процесс. Положительно не ожидал подобного пристрастного одностороннего отношения Трибунала. Зачем тогда было создавать процесс, вести его 25 дней? Инсценировать подобное «правосудие»?
* * *
В результате кассации защиты в Кассационный трибунал, ходатайств родственников и общественности Постановлением Президиума ВЦИК от 3 августа 1922 года расстрел был заменён заключением, но, как оказалось, не всем: «В отношении осуждённых Казанского, Новицкого, Шеина, Ковшарова приговор Петроградского Революционного Трибунала оставить в силе. В отношении осуждённых Плотникова, Огнева, Елачича, Чельцова, Чукова и Богоявленского – заменить высшую меру наказания пятью годами лишения свободы. Секретарь ВЦИК А. Енукидзе. 8 августа 1922 г.»
13 августа митрополит Вениамин, архимандрит Сергий (Шеин), миряне Юрий Новицкий и Иоанн Ковшаров были расстреляны на Ржевском полигоне на окраине Петрограда в лесу, примыкающем к Ириновской железной дороге, и погребены в безвестной общей могиле.
* * *
В 1990 году приговор Ревтрибунала по «Петроградскому делу» 1922 года был отменён и все осуждённые реабилитированы за отсутствием состава преступления. Архиерейский собор 1992 года причислил митрополита Петроградского и Гдовского Вениамина и «иже с ним пострадавших» к лику святых мучеников.



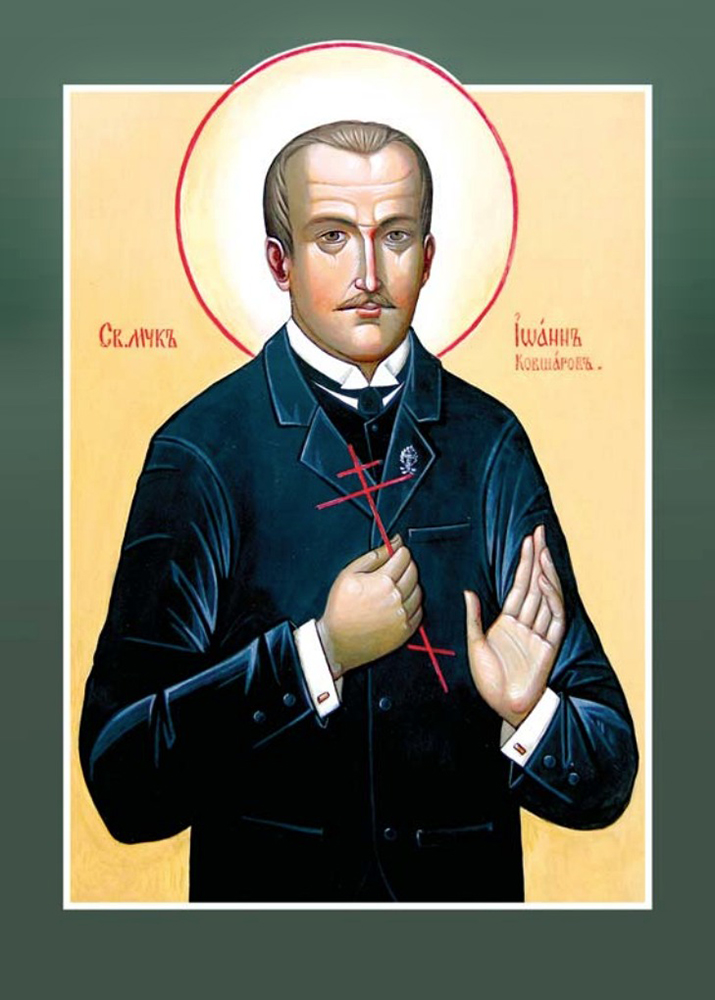 Икона с изображением новомученника Иоанна Ковшарова. Фото: vladimirskysobor.ru
Икона с изображением новомученника Иоанна Ковшарова. Фото: vladimirskysobor.ru Изъятие церковных ценностей в 1922 году. Фото: РИА Новости
Изъятие церковных ценностей в 1922 году. Фото: РИА Новости Подсудимые по делу об изъятии церковных ценностей, июнь 1922 года. Фото: общественное достояние
Подсудимые по делу об изъятии церковных ценностей, июнь 1922 года. Фото: общественное достояние Обвиняемые по делу об изъятии церковных ценностей садятся в автомобиль после окончания судебного процесса 1922 года. Фото: общественное достояние
Обвиняемые по делу об изъятии церковных ценностей садятся в автомобиль после окончания судебного процесса 1922 года. Фото: общественное достояние