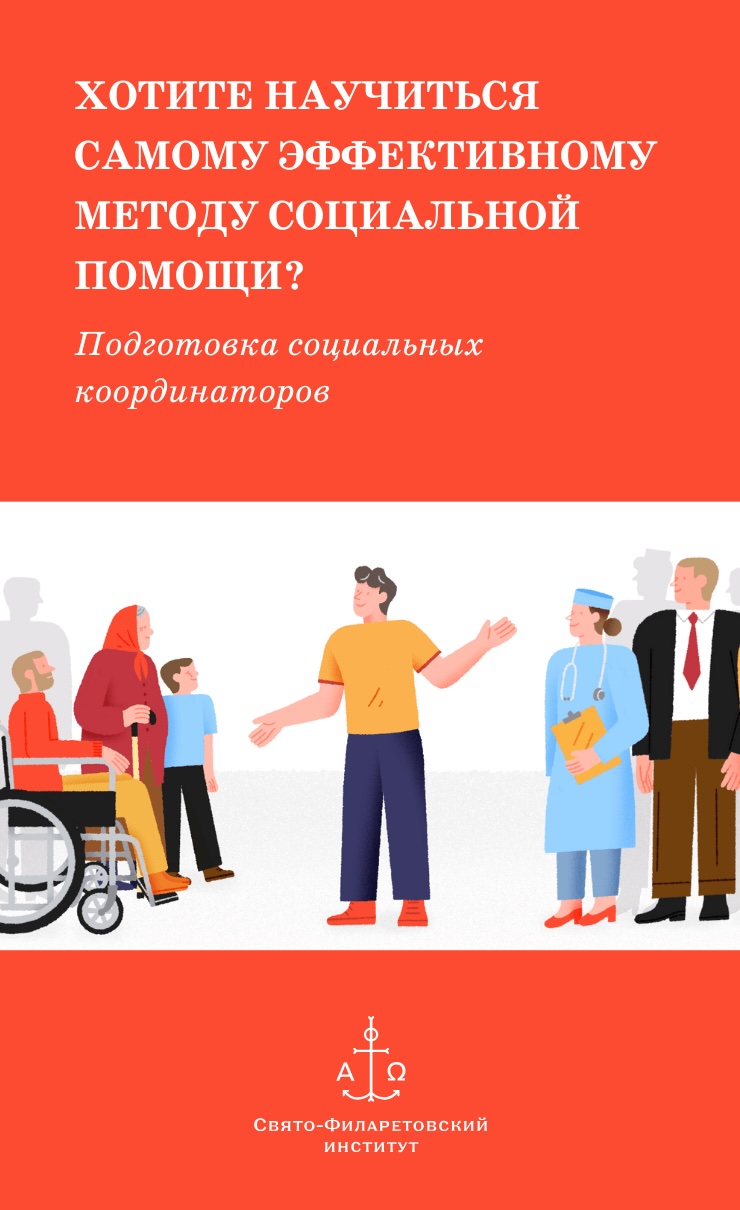– Для мыслящего человека всегда есть резон обращать внимание на символические обозначения, которые его окружают. В конце концов, человек отличается от животного ещё и способностью создавать вокруг себя «вторую природу» и различать смыслы при помощи символов. А символы – это совсем не безобидная вещь, как может показаться; они находятся в очень сложной взаимосвязи с той системой ценностей, которая нас определяет, в которой мы ориентируемся. То, что у нас до сих пор в ходу огромное количество советских топонимов, смыслов, знаков, – лишь признак новейшего символического безвременья и ценностной эклектики. Бывшие советские руководители, стоящие со свечкой в храме, прекрасно иллюстрируют царящий хаос. Тут всё: и Богу свечка, и чёрту кочерга. Это отказ от выбора, от символического самоопределения и хоть какого-то различения.
– Для мыслящего человека всегда есть резон обращать внимание на символические обозначения, которые его окружают. В конце концов, человек отличается от животного ещё и способностью создавать вокруг себя «вторую природу» и различать смыслы при помощи символов. А символы – это совсем не безобидная вещь, как может показаться; они находятся в очень сложной взаимосвязи с той системой ценностей, которая нас определяет, в которой мы ориентируемся. То, что у нас до сих пор в ходу огромное количество советских топонимов, смыслов, знаков, – лишь признак новейшего символического безвременья и ценностной эклектики. Бывшие советские руководители, стоящие со свечкой в храме, прекрасно иллюстрируют царящий хаос. Тут всё: и Богу свечка, и чёрту кочерга. Это отказ от выбора, от символического самоопределения и хоть какого-то различения.
– Если всё-таки совершить выбор в пользу отказа от советского наследия, то что с этим наследием делать? Просто уничтожить? А если перед нами не название улицы, а памятный объект?
– Вообще всякое уничтожение наследия – это чудовищное варварство. Причём варварство с точки зрения человечности, потому что даже материальное наследие – это не просто камни, это овеществлённая история человеческого общества. Если мы, как было принято в Древнем Египте, уничтожаем статую прежнего фараона, мы тем самым не меняем прошедшее, не избавляемся от следов и последствий прежнего правления, а просто закрываем глаза: это детское желание не думать о неприятном. Конечно же, советское наследие должно оставаться в актуальной современности: мы взрослые люди, это наша жизнь. Мне кажется, становясь взрослым народом, мы должны всё-таки научиться оценивать свою жизнь не мерками личного биологического существования, а серьёзнее – именно как народа, который помнит, что и когда с ним происходило, размышляет об этом, делает выводы. Материальные остатки и должны, собственно говоря, существовать для того, чтобы следующие поколения могли сформировать своё отношение к ним, исходя из актуальных сегодняшних ценностей. Если бы их не было, мы всякий раз рождались бы на «голой земле».
 Экспозиция Сахаровского центра, посвященная Политическим репрессиям в СССР . Фото: Wikimedia Commons / Birulik
Экспозиция Сахаровского центра, посвященная Политическим репрессиям в СССР . Фото: Wikimedia Commons / Birulik– Советское время как раз располагало к тому, чтоб мы жили на «голой земле». Как в Вас лично пробивалась память, человечность и всё то, о чём Вы сейчас говорите?
– Я бы сказала, что получила базовые представления о человечности оттуда же, откуда их получали все советские люди и благодаря чему советская власть, несмотря на все свои колоссальные усилия, не смогла расчеловечить своё население, –из великой русской литературы. Вопреки режиму литература воспитывала мыслящих и благородно чувствующих людей (конечно, в том случае, если человек принимал благие плоды воспитания), она могла задавать правильную систему координат. И уже дальше, зная, что есть добро и что зло, где находится верх, а где низ, ты мог ориентироваться в очень сложной, взбаламученной ситуации Перестройки и 90-х годов, когда разом на поверхность всплыла масса каких-то течений, верований и этических систем. Я не вижу худого в том, что люди выбирали и выбирают разное. Самое важное, чтобы между ними существовал этот консенсус человечности. Не снисходительность ко всякому греху и пороку, а именно человечность – как то, что выделяет человека из всей остальной живой природы и что не позволяет приносить его в жертву той же природе, государству и любым другим силам (при том что самопожертвование в некоторых случаях является весьма благородным деянием).
– Исходя из этого «консенсуса человечности», как бы Вы представляли советское наследие современному зрителю?
– Часто замечают, что советское наследие не единственное «трудное» в нашей стране: скажем, есть наследие XVII–XVIII веков, построенное руками крепостных людей, которые тоже находились не в самом благополучном состоянии. Но я бы сказала, что на любом фоне прошлых бед советское наследие безусловно выделяется, потому что мы как общество привязаны к нему толстенной и притом живой пуповиной. Для нас уже не так близко всё, что происходило до отмены крепостного права, но с советским временем мы связаны непосредственно – через свою живую память. И, заметим, крепостное право XVIII века было осмыслено потомками крепостников уже в XIX веке – в сторону отмены этого порядка. Здесь работа уже проведена, этические оценки даны и определённы. А с советским наследием не так, и эту работу не переложишь ни на кого: потому что оценку ХХ веку должен дать век XXI. Мы не можем холодно и по-научному отстранённо говорить о событиях своего недавнего прошлого, объекты, доставшиеся нам от советской эпохи, всё ещё очень функциональны, входят в нашу жизнь. Канал им. Москвы здесь прекрасный пример: отказаться от такой постройки, обеспечивающей Москву водой, было бы странно; музеефицировать её, чтобы ужасаться цене содеянного (одна человеческая жизнь на каждые пять метров канала), тоже не годится. Надо научиться с ним жить «на одной кухне», как с очень проблемным родственником. Чувствовать свою ответственность за него, менять себя, чтобы самим не стать такими же, и так далее. У нас не должно быть враждебности к советскому наследию на том основании, что оно советское: должно быть настороженное и очень внимательное отношение, чтобы знать, о чём это.О чём нам говорят эти камни? Сохранение материи важно для вынесения морального урока.
– Это если человек хочет выносить урок, а если он бережёт себя от «травмирующего опыта», если не терпит сложности, – для него такие памятники остаются как минимум непонятными, как максимум – «токсичными».
– Совершенно такую же логику можно опрокинуть на все монументы, связанные с войной. Чего пугать людей? Война – вещь страшная и ужасная, там погибло много людей, может, тогда вообще о ней не говорить? Ну вдруг кто-то, вместо того чтобы понять, сколько людей погибло в Великую Отечественную, решит, что милитаризм – это хорошо? Более того, мы видим, что кто-то так и решает. Но не будем же мы из-за этого вычёркивать память, связанную с войной. Если мы убережём слабого и неподготовленного человека от одной «токсичной памяти», он тут же навернётся на какой-то другой, а взрослый человек должен быть достаточно зрелым, чтобы воспринимать мир таким, какой он есть. К этому нужно идти. Мне кажется, мы очень неуважительно относимся к молодёжи, когда думаем, что она не способна переварить правду. Спросите любого человека: когда он впервые прочитал Варлама Шаламова? Это великолепный русский писатель, который рассказывает нам о чудовищных вещах, но делает это не отвратительно: люди, прочитавшие его рассказы, не перестают жить, спать и есть. Трагедия переживается через катарсис. Не напугать надо человека, а поразить в его нравственном сердце, чтобы он отторг зло.
– И такого эффекта можно добиться, не обладая талантом Шаламова? Если просто рассказывать о прошлом, обращаясь к осязаемому наследию?
– В моей практике был однажды случай: я водила экскурсию по постоянной экспозиции музея Сахаровского центра, где рассказывается об истории тоталитаризма. Меня слушала молодая женщина лет тридцати. Когда экскурсия закончилась, она подошла ко мне, и я с ужасом увидела, что у неё слёзы льются потоком по лицу. Страшным шёпотом эта женщина сообщила: «Я никогда никому об этом не рассказывала: у меня прадедушка был мулла, и его расстреляли!». Я тогда подумала: Боже, какой год у нас на дворе! Ведь уже столько проговорено, уже нет ничего страшного в том, чтобы помянуть расстрелянного деда. А вот же, осталось ещё очень много людей, у кого боль ХХ века загнана глубоко, и она продолжает их терзать вместо того, чтобы быть твёрдой основой для здоровой нравственности. Будто у нас до сих пор хранится страшный скелет в шкафу, который вылезает по ночам, чтобы пугать молодёжь. Так откройте шкаф, вытащите скелет – вы избавитесь от ночного кошмара. Я не говорю, что всё очень просто и у нас достаточно таланта, чтобы обо всём сказать. Я скорее настаиваю на том, что есть люди, которым нужно, чтобы мы – какие есть – говорили о нашем прошлом.
 Постоянная экспозиция Сахаровского центра. Фото: countryscanner.ru
Постоянная экспозиция Сахаровского центра. Фото: countryscanner.ru– Если обо всём говорить, не выяснится в итоге, что мы «проиграли ХХ век»?
– Мне кажется, дело обстоит так: если ты осознаёшь прошлую неправоту – значит, ты от неё освобождаешься и «выигрываешь» собственное прошлое. Если нет, проигрываешь. Поэтому выиграть ХХ век можно прямо сейчас. Отдельно стоит сказать, что не всё в ХХ веке было пронизано коммунистической идеологией, было много «подсоветской истории», которая совершенно необязательно носила героический характер. То, каким образом простые семьи воспитывали своих детей, как тайно и шёпотом говорили о примерах человечности, – это всё великое дело, благодаря чему главная задача СССР – построение нового человека – не была решена. Люди ХХ века радикально отличаются от людей XIX века, это правда, но расчеловечить нас как народ всё-таки не получилось. Уничтожить человека можно, а пересоздать его, по счастью, нет. Когда мы говорим, что «проиграли ХХ век», мы отождествляем себя с государством, которое в 90-е годы, действительно, обанкротилось. Это чрезвычайно прискорбно, учитывая, какие ресурсы (в том числе и человеческие) были вложены в то, чтобы сделать его великим и могущественным. Это грустно, тем более что мы любим свою страну. Но это не главное: государства, типы правления приходят и уходят, а мы как народ остаемся. Ну или хотим остаться, продолжиться дальше, а значит, должны актуализировать всю свою память.
– Этот шаг по «оздоровлению» памяти можно назвать декоммунизацией?
– Сегодня под словом «декоммунизация» часто подразумевают идеологическое гонение на тех, кому не повезло потерять власть. Поэтому правильный по сути термин оказался неудачным в практическом применении. У нас нет консенсусной системы ценностей и кто-то ещё ассоциирует себя с «коммунизмом», хотя часто не является таким уж верным ленинцем, он просто не разобрался в идеологическом хаосе. Но вообще мне кажется, что в этом термине заложен смысл, который более правильно можно было бы описать словом «преображение». Преображение – это всегда внутренний ненасильственный процесс, ведущий к изменению человеческой личности. Пусть государство проводит какие-то мероприятия, оно вообще деревянное и всегда действует грубо: даже не потому, что этого хочет, а потому, что тонкие процессы не могут регулироваться государственными мероприятиями. Это именно то, благодаря чему в советское время уцелела человечность и из-за чего «декоммунизация» как программа сверху едва ли будет работать. Единственное поле, на котором этот процесс может происходить, – это человеческая личность. Конечно, государство должно какие-то свои действия предпринимать: открывать музеи, ставить памятники, отмечать даты, но все это окажется бессмысленным и воспримется в штыки, если не будет сопровождаться более глубоким преображением.
– А преображение в масштабах страны может возникнуть из таких «личных преображений»?
– Социологи, историки, обществоведы вообще не любят слово «народ», потому что оно настолько пышное, что удобно встраивается в любую тоталитарную доктрину. Но я сама наблюдала то, что не знаю, как описать, если не использовать это слово. Это было время, когда я участвовала в градозащитной кампании, которая была сосредоточена на спасении московской церкви Воскресения в Кадашах от застройки. Существовал дорогостоящий коммерческий проект строительства, в результате которого должны были появиться крупные здания, которые бы взяли эту церковь в каменный мешок. Собственно говоря, что мы теряли? Красивый вид на красивую церковь. Это безусловно жаль, но часто ли мы им любуемся, у нас окна на него что ли выходят? Нет, конечно, и тем удивительнее был масштаб поддержки этой нематеральной ценности, этого красивого вида. Защитить церковь пришли тишайшие домохозяйки, мелкие бизнесмены, художники, монахи, казаки, блогеры, леваки и праваки – кого там только не было! Случился даже разговор людей, один из которых, сидя в здании Белого дома в 1993 году, стрелял наружу, а второй находился в это время снаружи и слышал пули у себя над ухом (знаю, поскольку вторым была я). И вот все эти очень разные люди в тот момент были вместе, сидели и беседовали между собой, потому что хотели защитить красивый вид, город, ощущаемый своим, а через него – своё достоинство. Уже прошло много лет, а я всегда, проезжая в окрестностях того места и видя над крышей пять золотых куполов, думаю: вот, они видны, а могли бы потеряться, застроиться. В минуту беды мы научились собираться, выстраивать нас в колонну по четыре повседневно не получится, и оба этих факта хороши. Из них может что-то родиться. К примеру, изменение общего взгляда на жизнь.