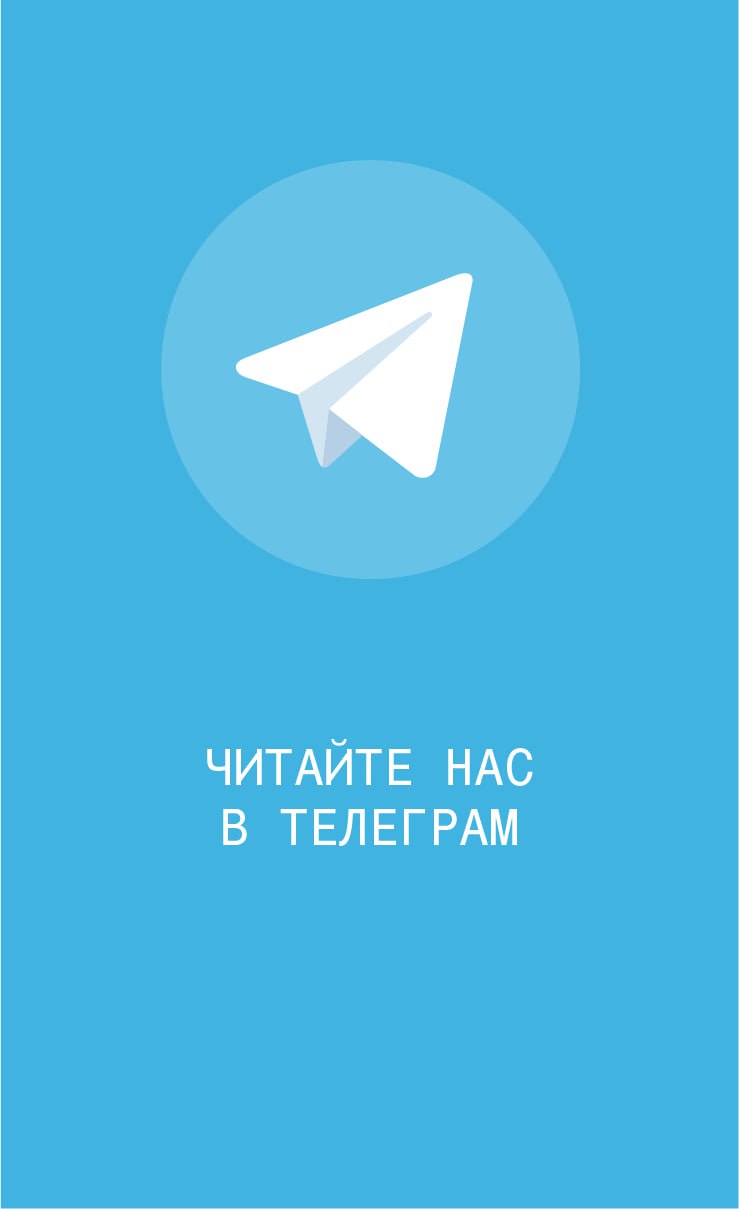– В прошедшем году одним из приоритетных вопросов для разработки Межсоборным присутствием Русской православной церкви был назван вопрос о служении мирян. Почему, на ваш взгляд, эта тема сейчас стала актуальна?
– Некоторые считают, что церковь – это епископы, священники, дьяконы и пономари. А я считаю, что церковь – это все верующие, а не только клир. Собственно говоря, так оно и есть. Поэтому никому нельзя бездействовать на пути ко Христу: это недопустимо. Если мы будем полагаться только на священников, то может оказаться, например, что они не готовы вести миссию в полной мере по разным причинам, среди которых и наследие многих лет богоборчества, утвердившее в народе недоверие к людям церкви, и недостаток образования у священнослужителей. Если из-за этого у священства не будет возможности вести миссию как подобает, тогда миряне должны взять это на себя.
 Епископ Черняховский и Славский Николай (Дегтярёв). Фото: vk.com/cherneparh
Епископ Черняховский и Славский Николай (Дегтярёв). Фото: vk.com/cherneparhЛучше показать это на примере: некий человек ищет чего-нибудь, что было бы праведно, справедливо. Например, где-нибудь в магазине он говорит:
– У нас всё плохо, человек человеку волк, все друг друга ненавидят, никто ни о ком не заботится.
А кто-то отвечает:
– Да нет, подожди, а в церкви?
– А что в церкви? Нам рассказывают, что в церкви творится!
– А ты пойди и посмотри.
Он приходит и видит братство, видит заботу друг о друге. И это будет гораздо больше, чем если он будет читать проповеди священников ХIХ – начала ХХ века, где с восторгом говорится о том, что церковь – это такое хорошее объединение людей. Здесь как раз важны миряне, должна быть община, братство. Если нет общины, то это печально, что не везде её удалось создать. А там, где удалось создать общину, – это успех миссии и вообще успех дела спасения.
– А кого в церкви можно назвать мирянами?
– Православных людей называют по-разному. Есть такое определение – верующие, которые верят себе тихо и никого не трогают. Может быть, иногда приходят на службы. Нормально. Такой человек верующий, имеет право быть. Дальше, я думаю, можно выделить служащих Богу в церкви: это священнослужители, монахи и миряне. То есть миряне – это не просто верующие, которые сидят дома на диване и смотрят по телевизору литургию из храма Христа Спасителя. Это те, кто сами служат. Я считаю, что миряне – как раз из числа служащих.
 Фото: vk.com/cherneparh
Фото: vk.com/cherneparh– В церкви ещё есть понятие верных. Даже в литургии есть Литургия оглашаемых и Литургия верных.
– Вера без дел мертва. Если мы говорим, что человек верный, – значит, он живёт соответственно. Он не заявляет о том, что он верный, а подтверждает это своими делами.
– Вы говорили уже, что служением мирян может быть свидетельство, миссия. Какое ещё может быть служение мирян?
– Если миряне будут жить по вере, то это и будет миссия. Что такое миссия? Это проповедь. Можно проповедовать: ходить и кричать на площадях, что я христианин, вот сейчас Христос придёт, второе пришествие будет, живите праведно. Это вроде как тоже проповедь. Но не у всех есть дар хорошо и убедительно говорить. А то, что есть у всех, – это возможность жить по-христиански. Это и будет проповедью, которая доступна всем. Тогда люди скажут: «Смотри, мой сосед – вроде простой человек, но когда была сложная ситуация – он пришёл на помощь. Он заботливый, вежливый со всеми». Это значит, он проповедует, зная, что он христианин. И люди придут ко Христу и в Церковь, потому что велик Бог христианский. Получается, что миссией является то доброе в церкви, что люди видят со стороны. Если они увидят со стороны открытую честную жизнь христианина, то для них это будет миссия, это будет убедительно, если сам христианин заботится о нуждающихся, например, и поддерживает людей, которые не нашли своё место в жизни.
Миряне не могут быть зрителями и потребителями, как в магазине, духовных благ. Если церковь считают местом, где раздают духовные блага, – это плохое определение церкви, плохой рецепт для спасения.
 Епископ Черняховский и Славский Николай (Дегтярёв) в центре. Фото: из личного архива Кирилла Мозгова
Епископ Черняховский и Славский Николай (Дегтярёв) в центре. Фото: из личного архива Кирилла Мозгова– Вы сказали, что хорошо, когда есть община. А что может помочь рождению общины, как её собрать, откуда она берётся?
– Община – это Божий дар. Обратимся к другим категориям служащих в церкви. Если священник являет всей своей жизнью служение Богу, то это станет привлекательным для людей. Батюшка с утра приходит в храм и до ночи там находится, что-то делает, украшает, ремонтирует – значит, это имеет смысл. Человек, глядя на это, так или иначе, но будет задумываться: «А почему он так делает? Может, и мне так?». Он подходит и говорит: «Батюшка, может быть, я что-нибудь могу сделать для храма?». С этого всё начинается, так люди и приходят. Хуже, когда священник ходит и всех собирает: «Пойдёмте, давайте соберёмся, давайте будем неравнодушными». Помню, были рассказы о церкви, где священника прислали в глухую деревню. Там был разрушенный храм, в который никто не хотел ходить. Он просто стал ремонтировать этот храм, сделал крышу, начал служить там акафисты, один стоял и пел. Кто-то проходил мимо, смотрит – он поёт. Начали туда заходить. Потом присоединились другие. В конце концов там оказалась такая община, что всё село стало прихожанами, у него пел весь храм.
Кстати, у нас в Озёрске поёт весь храм. Так себе поют, честно скажу, но зато поют все, даже архиерейскую службу спели все вместе. Я приехал служить, а из певцов кто-то заболел, кто-то уехал, и оказалось, что из всех остался только один. А настоятель говорит: «Давайте все будем хором петь. Более или менее сложные тексты песнопений пусть один поёт, а “Господи, помилуй” на ектении пусть поют все». Я согласился – и получилось очень здорово, прямо как в Древней церкви. «Господи, помилуй» – это же ответ всего народа на прошения молитв.
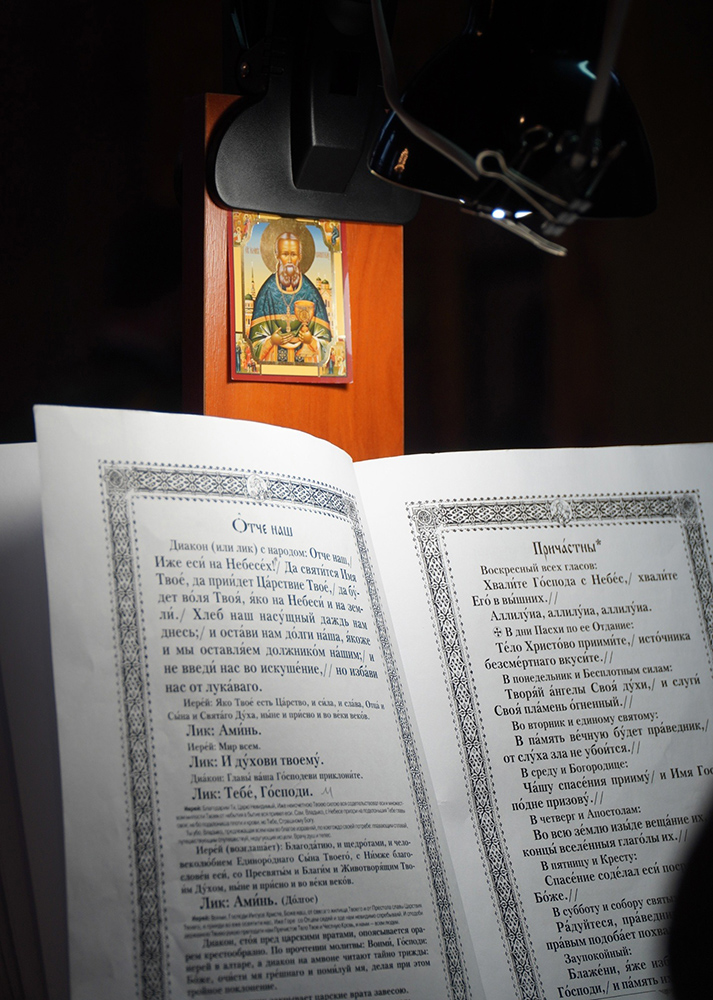 Фото: vk.com/cherneparh
Фото: vk.com/cherneparh– Людей ведь ещё собирает проповедь на каждой службе, особенно если она после чтения Писания.
– Это то, о чём я и говорю. Священник пытается вникнуть в суть текста Писания и рассуждает вместе с людьми, а люди подключаются к этому рассуждению. Вы спрашиваете, откуда община берётся. Да это зависит от поведения священника, от его служения, от слова его проповеди. Хотя иногда бывает не совсем так, иногда община собирается сама. У нас в области такое тоже бывало. Люди собираются вместе и начинают что-то вместе делать, поют акафисты, или читают Псалтирь, или, собираясь, мирянским чином читают часы, например. У нас в епархии есть храм, где в колокольне в кирхе, которая была ещё с довоенных времён, люди закрыли каморку и сделали часовню, поставили иконы и стали там сами молиться, собираясь по воскресеньям. Инициатива была явно от мирян, а потом батюшка подключился, узнав об этом, стал туда приезжать. Вернее, они сами на священника вышли, и потом его туда назначили. Община – всегда дар Божий. Просто иногда Бог сразу даёт людям инициативу, а иногда требуется помощь священника.
– В общем, и вера прежде всего Божий дар.
– Естественно, вера не по указке даётся. Указом Синода можно организовать монастырь, и то бывает, что монастырь уже фактически есть, то есть люди уже собрались. Мы знаем, что некий святой пошёл на Белое озеро, Кирилл Белозерский, например, и вокруг него стали собираться люди. Когда Сергий Радонежский пошёл в лес, он ведь не ставил целью собирать там лавру: он построил храм – и люди сами начали собираться, проситься к нему, чтобы вместе спасаться.
– С другой стороны, если вспомнить историю с преподобным Серафимом Саровским, то он сам отбирал и приглашал из тех, кто к нему приходил, сестёр в Мельничную общину.
– Да, и так тоже бывало в XIX веке. Но общины, слава Богу, есть и в наше время.