Известно выражение: «дьявол – обезьяна Бога». Но ведь если Ставрогин, назвав Верховенского своей «обезьяной», был не богом, а бесом, то обезьяна беса – это уже чистейший бес, беспримесный и бесповоротный, это бес, лишённый даже исходного божественного лика для передразнивания. Это уже обезьяна обезьяны. Только такой и мог своими руками убить беззащитного человека. То, чего не смог Ставрогин (убить Матрёшу), сотворил Верховенский, убив Шатушку.
И Ставрогин – блогер, популярный среди небольшого числа преданных ему и преданных им людей – в конце концов решается завершить этот круговорот смертей, на которые он всех своих «поклонников» и соблазнил, он решается завершить его своей смертью, впервые совершив «пранк» над собой – не ради наблюдения со стороны, не ради бесчеловечной щекотки своих чувств. Наконец, Ставрогин – обезьяна Бога – решил прекратить своё заразительное шествие по миру и прервал на себе цепь взаимодетонирующей цепи смертей. Бес отказался быть бесом и впервые сделал что-то человеческое, в прогале сознания ужаснувшись нерукотворно сотворённым самим собой смертям. Но бесёнок Верховенский не сгинул, а выехал, как и положено, за границу и там, уже вне пределов книги, но внутри пределов исторической России, продолжил творить своё чисто обезьянье бесовство, лишённый изначального полубожеского лика своего падшего учителя. Ставрогин умер, и более уже никто не мог сдержать Верховенского от предстоящего триумфы и верховенства. 1917 год стал триумфом Петрушки, который залил Россию террористическими пранками и бесчеловечным контентом. Обезьяна обезьяны бога получила в руки гранату и сидела с оторванными лапами посреди разнесённого взрывом мира.
А был ли какой-то у Ставрогина выход из лабиринта зла? Его исповедь Тихону – это всё хорошо, но это «осталось на бумаге» (и – поразительно – в реальности эта глава «У Тихона» тоже не была опубликована при жизни Достоевского – словно сама реальность спародировала авторский замысел, по которому Ставрогину-Достоевскому так и не суждено было опубликовать свою исповедь). Публичное покаяние осталось прожектом, и Ставрогин продолжал светить чёрным светом, поглощая встречные жизни.
 Кадр из сериала «Бесы». Николай Ставрогин и Марья Тимофеевна Лебядкина. Фото: Нон-стоп Продакшн
Кадр из сериала «Бесы». Николай Ставрогин и Марья Тимофеевна Лебядкина. Фото: Нон-стоп ПродакшнСхождение аристократа Ставрогина в самые тёмные низы общества – суть художественное протоколирование Достоевским хождения в народ в реальной России XIX века. Политический хадж хождения совершался социально наивными людьми, идеально опалёнными мечтами о фаланстерах, чужими наведёнными смыслами, которых они не могли понять. Организация «Земля и Воля» – землевольцы воевали с землевладельцами. Это ничего, что в 1917 году были отняты и земля, и воля, главное – первоначальный лозунг был больно хорош, многих соблазнил, выполнил своё. Ставрогины – безразличные радетели о народном благе, не ведающие, в чём состоит это благо, мрачные прожектёры с горящим сердцем. Горьковский Данко – человек с пламенем в груди и камнем в мозгу, да ещё с идеальной малороссийской фамилией – действительно советский идеал человека, разрушающего русскую культуру под знаменем возвышения и оправдания униженных и оскорблённых. И вот Герцен звонит в колокол, Бакунин разглагольствует в Европе с высоких трибун. Видно, что люди чего-то хотят, лезут к людям со своей любовью, помощью, идеями, а только как-то выходит так, что их слушателями оказываются хромоножка Лебядкина, какие-то пьяные дураки, недоучившиеся студенты Шатовы и Кирилловы.
Великий мысли дух вдруг как бы оказывается как пух – щекочет души и сердца лишь самых неустойчивых, низших членов общества. А тех, с кем Ставрогин стоит на одной социальной ступени, наш герой в припадке кусает и водит за нос. Ставрогин не может быть на равных, душа его способна лишь снисходить на нижний круг, опускаться на горьковского дно, идти в народ. Все эти некрасивые хромые и пьяные Лебядкины тоже не выбирали, на какой социальной ступени им родиться. Но Ставрогин пришёл к ним как князь, как свет и надежда, но ничего не смог им дать. Он кинул Лебядкиной кость сватовства, но не готов был и не имел за душой мяса, чтобы обрастить эту кость подробностями подлинного законченного поступка. Полумеры, полукрики, полуправда Герцена, Бакунина – яркие ярлыки на пустых сосудах. Ставрогин, чья фамилия – суть гоголевское соединение креста (Stauros) и рогов (у Гоголя был персонаж Ставрокопытов) – всю книгу и проживает в этом раздвоенном состоянии: сказав А, не умеет сказать Б. Взял Марью в жёны, довёл Матрёшу до самоубийства (то есть дважды убил Марию), но признаться в этом публично не смог. Духа не хватило. Душить нижестоящих своим социальным статусом – это мы умеем, а рассказать об этом публично – кишка тонка. Потому и к Тихону пошёл – не для того, чтобы действительно опубликовать признание, а чтобы так вроде и признаться перед кем-то посторонним, но при этом подленько остаться при своих интересах. А интересы Ставрогина – аристократические. Как Лебядкина не выбирала своего места в обществе, так и Ставрогин – не выбирал. И оба жили в своих мирах, которые не должны были столь драматично переплестись. Это социальный мезальянс. И Ставрогин как более развитой человек это понимал, но шёл, пытаясь доказать аристократу внутри себя, что аристократия – тьфу, пустое место.
 Федор Михайлович Достоевский в 1863 году. Фото: общественное достояние
Федор Михайлович Достоевский в 1863 году. Фото: общественное достояние«В Женеве я попал прямо на “Конгресс мира”. В зале, который мог бы вместить три или четыре тысячи человек, с высокой трибуны разглагольствовали разные господа, которые решали судьбу человечества. Проблема была философского порядка, но цель конгресса – практической; вот в чём она состояла: как сделать, чтобы на земле исчезли войны и чтобы воцарился мир? Я впервые в жизни своей слушал и наблюдал революционеров не в книгах, а наяву и притом за работой; поэтому я был немало заинтересован. Сразу же было решено, что, дабы мир воцарился, необходимо истребить огнём и мечом папу и всю христианскую религию. Затем: поскольку великие державы показали, что не могут существовать, не имея больших армий и не ведя войн, надо их разрушить и заменить маленькими республиками; затем надо уничтожить огнём и мечом капитал, а равно и всех тех, кто не всецело разделяет этот взгляд. Среди присутствовавших нашлись такие, которые, наслушавшись этой бестолковщины, попытались возражать; им помешали. Начали голосовать: революционеры остались в жалком меньшинстве, но комитет с нескрываемым цинизмом подтасовал голоса и заявил, что революционеры – в большинстве».
Ф.М. Достоевский, «Дневник писателя». 28 сентября (10 октября) 1867
И ровно через 50 лет после этой записи огнём и мечом всё и было уничтожено. Только почему-то уничтожено не в Женеве и не Лондоне, а в России. Места обитания Бакунина и Герцена остались невредимыми, ни одного Ставрогина в 1917 году не пострадало. Зато Лебядкины, Шатовы, Кирилловы отправились в долгое семидесятилетнее путешествие по советскому полю чудес. Много ими было срублено лесов, вспахано полей и вырыто рек. И другой такой страны не знали, где так вольно дышит человек. И всем жителям бывшего российского дна была дарована наконец конституция – тот самый ставрогинский манифест, в котором всё было красиво и равноправно. Только написана эта конституция была убийцей и провокатором. Манифест Ставрогина – суть полицейское досье на самого себя, что в будущей советской России было не отягчающим обстоятельством, а самым что ни на есть благородным советским поступком. На манер Павлика Морозова: укусить отца и донести на себя. Молодец, Ставрогин, далеко пошёл!


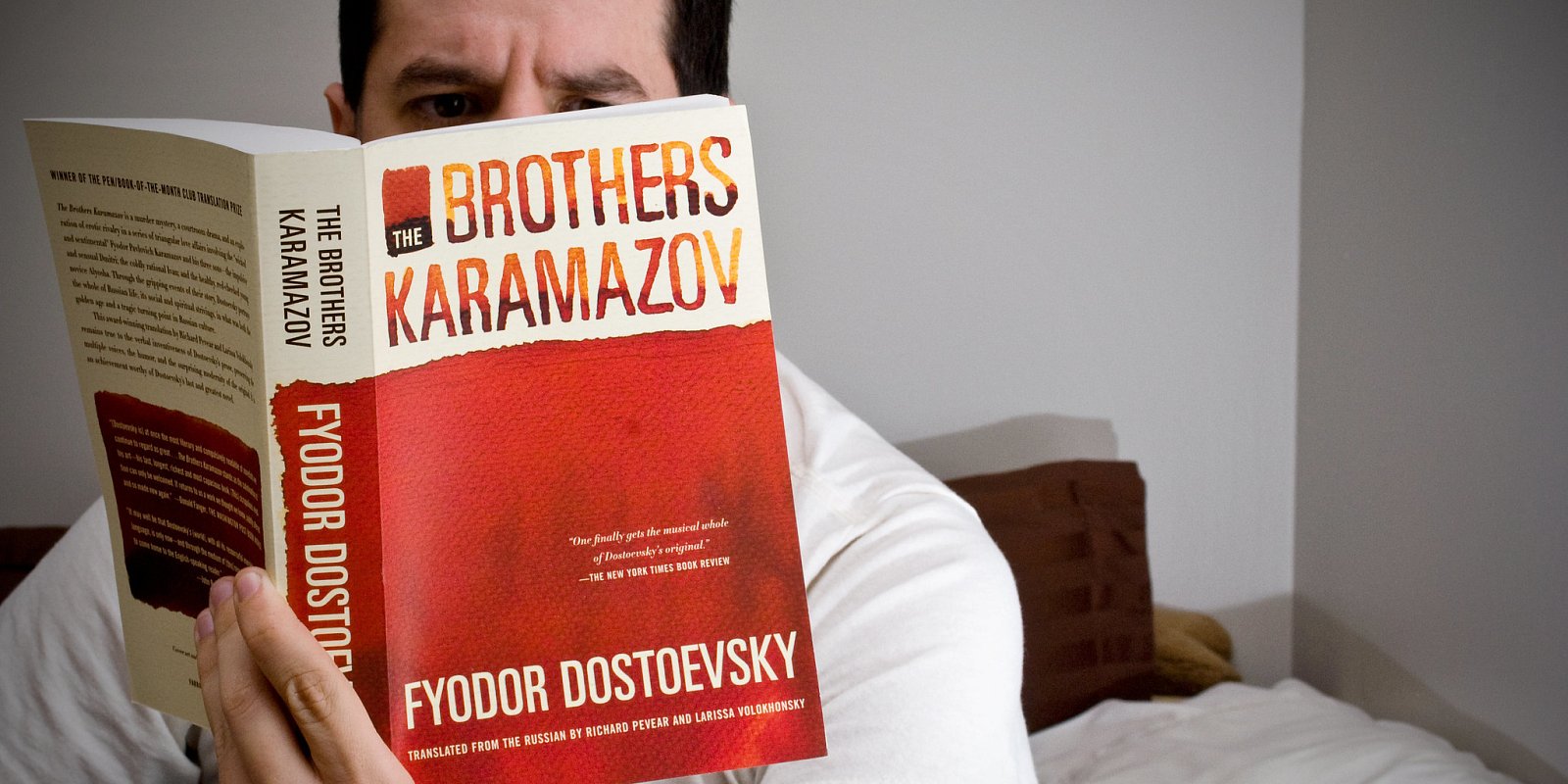
 Кадр из сериала «Бесы». Николай Ставрогин и Марья Тимофеевна Лебядкина. Фото: Нон-стоп Продакшн
Кадр из сериала «Бесы». Николай Ставрогин и Марья Тимофеевна Лебядкина. Фото: Нон-стоп Продакшн Федор Михайлович Достоевский в 1863 году. Фото: общественное достояние
Федор Михайлович Достоевский в 1863 году. Фото: общественное достояние Портрет полковника Василия Александровича Пашкова. Фото: The New York Public Library
Портрет полковника Василия Александровича Пашкова. Фото: The New York Public Library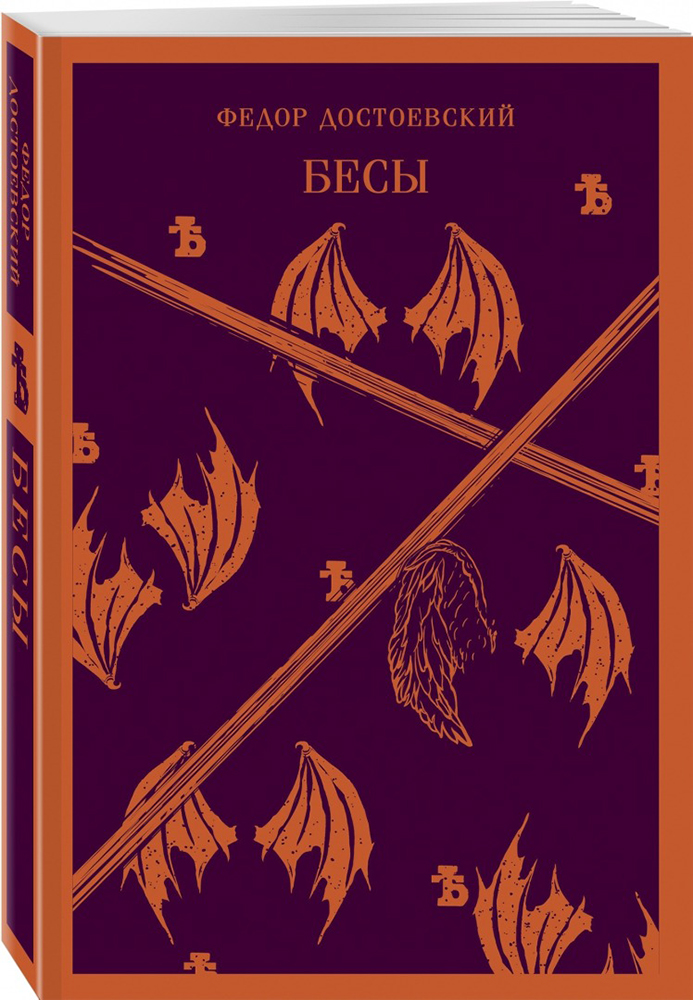 Книга Ф. М. Достоевского «Бесы». Фото: издательство Эксмо-Пресс
Книга Ф. М. Достоевского «Бесы». Фото: издательство Эксмо-Пресс