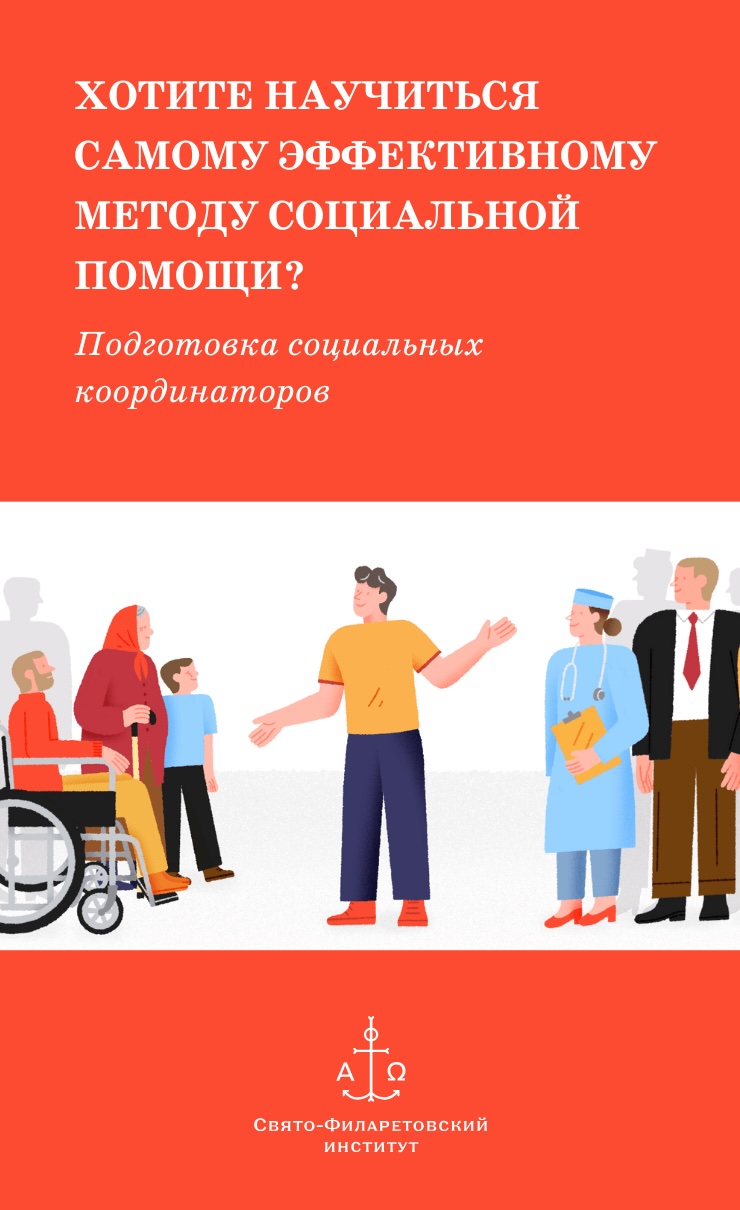Эксперты «Стола» – директор центра полевых исследований РАНХиГС социолог Дмитрий Рогозин, много лет занимающийся исследованиями старения и старости, и учёный секретарь Свято-Филаретовского института, филолог, доцент теологии Юлия Балакшина, специалист по русской литературе XIX века.
Самый большой миф о старости
– Есть такой мем из американской культуры. Герой популярного сериала «Друзья» празднует тридцатилетие, и там такая эпичная сцена: «О Господи, ну Ты же обещал, что это будет со всеми, но не со мной! Пусть другие стареют!». И такое отношение к старости, как кажется, нашим обществом сейчас тоже усвоено, что после 30, или 40, или 50… есть желание отмотать всё назад и застыть в каком-то возрасте. Словом, откуда такой гипертрофированный страх перед старостью?
Дмитрий Рогозин: Это не сейчас началось. Можно сказать, так было и сто лет назад. От старости бежали, она казалась неуместной, ненужной, да и сейчас кажется. Это период жизни, больше связанный с потерями и упущениями. И уж от чего средний человек бежит и чего больше всего боится – это немощи, невозможности не то что добиваться чего-то, нарушения каких-то функций организма, а невозможности ухаживать за собой в каких-то элементарных вещах, ухаживать за своим телом, умываться, ходить в туалет – огромный страх этого. Он связан с мнимым стыдом, идущим, наверное, с детства… Я не знаю, как он формируется – этот стыд своего тела и страх, что кто-то другой – чужой – будет менять мне памперс. Да я лучше умру раньше времени, чем допущу это.
 Дмитрий Рогозин. Фото: sfi.ru
Дмитрий Рогозин. Фото: sfi.ruИ очень часто, когда говорят о страхе смерти, подразумевают страх немощи. Потому что когда начинаешь уточнять, то оказывается, что в нашей культуре страх смерти не так сильно распространён, как в западной. Страх скорее связан не с таким экзистенциальным переживанием, что меня здесь нет, а с тем, что того, кого я люблю, нет. Самый большой экзистенциальный ужас – это когда человек начинает задумываться, что его дети могут умереть раньше, чем он. А в то же время мы живём в обществе, в котором так или иначе пересекаемся с разными возрастами, видим, как живут другие, и вдруг замечаем, что если человеку переваливает за 80, за 90 лет, то очень часто кого-то из его детей уже нет. И это вызывает ужас: как говорится, «на себя не прикладывай, на себе не показывай».
И это всё в совокупности рождает отторжение и даже на уровне лексики (в комплиментах – «моложе выглядишь») бегство от того, чтобы хоть что-то говорить о старости. Старость начинает невольно приравниваться к болезни. Что такое старость? Это когда ты неумелый: до этого ты мог это делать, а теперь не можешь. И если у тебя синоним старости – немощь и неумение, потеря памяти и так далее, – чего к этому стремиться? Самый бессмысленный, безобразный период.
И это самый большой миф и самое большое заблуждение наших дней! И именно оно формирует тот самый «внутренний эйджизм», то есть когда ты сам себя маркируешь при первых сигналах, допустим, начинающей развиваться деменции как человека, который уже ни на что не способен и чьё дело – сидеть, молчать в тряпочку на своём диванчике и не отсвечивать.
Дело даже не в страхе смерти
– А как обстоит дело в христианской культуре?
Юлия Балакшина: Когда я только знакомилась с миром Библии, мне прочитали строчки из книги Экклезиаста и спросили: о чём это? Сейчас, в контексте нашего разговора, нетрудно догадаться, но всё-таки я тоже их процитирую: «В тот день, когда задрожат стерегущие дом и согнутся мужи силы, и перестанут молоть мелющие, потому что их немного осталось; и помрачатся смотрящие в окно; и запираться будут двери на улицу; когда замолкнет звук жёрнова, и будет вставать человек по крику петуха, и замолкнут дщери пения; и высоты будут им страшны, и на дороге ужасы; и зацветет миндаль, и отяжелеет кузнечик, и рассыплется каперс».
Практически каждый из этих образов легко прочитывается. Это образы старения человека: у него ослабевают руки, ослабевают ноги, перестает внятно ворочаться язык, он перестает видеть и слышать, и одолеть любую горку для него становится проблемой… Когда мне много лет назад задали такую загадку, я её не разгадала – видимо, для меня это время ещё было совсем далеко. Сейчас эти образы мне кажутся гораздо более внятными. А заканчивается этот эпизод из Библии ещё более красивыми и поэтичными образами: «пока не разорвалась золотая повязка, доколе не порвалась серебряная цепочка, не разбился кувшин у источника и не обрушилось колесо над колодезем». То есть в библейском мире старость – это время, которое напрямую связано с этим необратимым переходом, с этой точкой, о которой никто ничего не знает, но которая всех ожидает, – со смертью. И хотя Дмитрий говорит, что русскому человеку не свойственно бояться смерти, мне кажется, здесь дело даже не в страхе. У современного человека скорее нет привычки, желания вглядываться в неё.
Я вспоминаю стариков Рембрандта. Это тоже один из мощнейших образов, который меня с самой юности завораживает. Я могу стоять часами около этих портретов и пытаться понять, куда они смотрят. А они, видимо, смотрят именно туда, как у Седаковой, «куда не глядят, не уйдя без следа, шатаясь и плача». Они смотрят туда, куда уходят все. И вот эта способность стариков каких-то прошлых эпох, по крайней мере эпохи Рембрандта, смотреть туда и не отводить взора, пытаться даже не то что готовиться к этой встрече, а соотносить с ней свою жизнь, мне кажется, сейчас ушла. И человек может не бояться смерти, но она не является тем, что определяет его мировосприятие. Она как-то немножко отодвинута на периферию. И поэтому главный вопрос: чем наполнено это время? Оно наполнено болезнями и немощами или оно наполнено вот этим совершенно уникальным знанием, которым никакая другая эпоха жизни человека не обладает?
 Картина Рембранта «Портрет старого еврея». Фото: Государственный Эрмитаж
Картина Рембранта «Портрет старого еврея». Фото: Государственный ЭрмитажДмитрий Рогозин: Хочется сразу возразить. Хотя мне очень созвучно всё, что вы говорите: действительно, старость – это период, в котором смерть становится зримой, и не просто рассуждение о смерти, а подготовка к ней – это, что называется, основной удел или предназначение старения как такового. Но я не согласен, что человек как-то принципиально изменился именно за эти столетия и что для него эта тема стала менее значимой. Но в публичном разговоре стал доминировать культ среднего возраста с его достижениями: семья, карьера, покупка дома в ипотеку, и как бы вытеснил старость. Ушла значимость старения и способность прислушаться к старику.
Но когда я прихожу к старику и мы начинаем разговор, интервью, которое на самом деле на интервью не похоже совсем – так же сидишь, пьёшь чай, – тема смерти сразу же всплывает, и всплывают потом ещё такие очень горькие оговорки: вы знаете, мне не с кем об этом поговорить. И мы начинаем говорить. Она, может быть, неграмотная, без образования. Она начинает говорить о том, что надеть на себя, как подготовиться, какой памятник должен быть, где сбережения хранятся. Какие-то такие вещи. И дети, да вообще любой, кто окружает (соседка), говорят: «Не надо, всё будет. Об этом даже думать не надо – сглазишь».
Вот это действительно изменилось. Внутренняя потребность думать о смерти у человека, который дожил до этого возраста, никуда не делась. Да, он затормозился в своём движении к каким-то материальным благам, потому что глубокие старики вообще довольны, скажем, пенсией. У них нет лекарства, но они всё равно к этому очень спокойно, лояльно относятся. А вот значимость этого разговора и понимание этой значимости детьми – это как-то ушло на всех социальных уровнях общения. И публично: ой, как же вы там про смерть будете говорить, что вы здесь тёмные краски привносите! Как будто это событие является исключительно тёмным. В этом смысле, конечно, выигрывают религиозные люди, поскольку у них есть язык, есть традиция и понимание, что в размышлении о смерти ты присоединяешься к какой-то очень-очень важной истории, которая намного больше тебя.
Поломка в бытии?
Юлия Балакшина: И всё-таки тема смерти всегда была очень сокровенной. Иногда даже говорят, что она была табуированной и что надо это табу снять. Но мне кажется, что в этом есть и всегда было какое-то благоговение русского человека перед смертью. Я вспоминаю, как Толстой несколько раз в своём творчестве подступает к описанию момента смерти. В случае с Анной Карениной что вы можете сказать: свеча вспыхнула более ярким, чем когда-нибудь, светом и навсегда потухла. Он чувствует, что есть этот предел – предел языка, предел человека, своим дерзновенным умом пытающегося проникнуть в эту тайну.
 Юлия Балакшина. Фото: sfi.ru
Юлия Балакшина. Фото: sfi.ruПоэтому я не сторонник того, чтобы тема смерти выносилась в публичное пространство. А вот эти личные разговоры с людьми, которым ты доверяешь, действительно очень важны. Я чувствую, что, например, мой отец хотел бы со мной об этом поговорить, но не решается.
По поводу религиозных традиций – мне кажется, в этом есть сейчас проблема. Потому что одно дело – ты привыкаешь к религиозным традициями, а другое дело – ты имеешь ясную и твёрдую веру. А сейчас у человека этот орган веры очень деформировался, и – вспомним «Сталкера» Тарковского – даже если человеку внушены какие-то правильные истины о том, что будет, это не помогает, если нет этой реальной силы веры, опыта веры. Это тоже очень сложный вопрос – насколько у современных людей этот орган веры восстановлен.
– А с точки зрения христианской веры старость и старение – это что? Поломка в бытии какая-то? Мир падший, и поэтому всё умирает, увядает? Или можно разглядеть какой-то замысел о старости, её особые дары?
Юлия Балакшина: Как специалист по русской литературе я могу сказать, что у Гоголя в «Выбранных местах из переписки с друзьями» есть такое письмо, судя по всему, адресованное Михаилу Щепкину, которое называется «Христианин идёт вперёд». Оно посвящено старости, и мысль его очень простая – что все великие люди, все философы в старости – хотели они того или нет – впадали в состояние разложения и упадка. А все святые чем ближе к смерти, тем ярче светили, собирали вокруг себя всё больше людей, приносили всё больше плодов. И почему это? Где причина такой разницы? Мысль Гоголя такая. Чем живёт юность? Юность живёт достижением цели. Ты ставишь цель, ты её достигаешь, и это придаёт тебе энергию. Но цели, которые ставятся в юности, быстротечны, они преходящие. А вот христианин ставит перед собой такую цель, которую и достичь-то, в общем, нельзя, но по мере движения перед ним открывается Небесное царство, и поэтому эта энергия движения в нём никогда не иссякает, она со временем только усиливается. И, наверное, это возможный вариант ответа на вопрос о призвании старости.
И ещё Гоголь различает ум, разум и мудрость. Ум – скорее свойство молодости, это способность как-то ориентироваться в пространстве и понимать, что к чему. Зрелости свойственен разум, когда человек уже способен схватывать целое жизни, а не только решать практические задачи. Ну а призвание старости – это мудрость, но не просто житейская, а максимально полно отражающая божественную мудрость.
Кстати, я пролистала целый ряд русских стихотворений, так или иначе посвящённых старости, и там очень часто употребляется образ лазури. Старость изображается как озеро, стекло, зеркало, которое способно отразить лазурь. И этот образ повторяется прямо от Державина к Тютчеву, к Мережковскому. Вот эта открытость лазури: «И льётся чистая и тёплая лазурь на отдыхающее поле». Это дар старости.
 Фото: Katarzyna Grabowska/Unsplash
Фото: Katarzyna Grabowska/UnsplashЛюбимый возраст нашего общества
– А есть какой-то любимый возраст у нашего общества? И как это можно измерить?
Дмитрий Рогозин: После лазури я уже ничего не скажу. Это так хорошо прозвучало! Я не задумывался, не обращал внимания именно на лазурь в этих стихотворениях.
Любимый возраст – его можно измерять, допустим, очень простым вопросом: на какой возраст вы себя ощущаете? Человек всё время как-то начинает ощущать себя на тот возраст, который ему больше нравится. По крайней мере мне так кажется. И этот возраст в основном выходит у нас где-то от 25 до 30 лет.
– Да что вы?!
Дмитрий Рогозин: Да, примерно так. То есть известно, что детство у нас – время счастья, но как-то не каждый хочет вернуться в своё детство, может быть, вспоминая опыт некоторой муштры, подчинения, ещё чего-то такого. Хотя детство практически все вспоминают как безоблачное – и, кстати, именно в старости об этом появляются самые яркие воспоминания. Я вообще поражаюсь, насколько образно, в мельчайших деталях могут глубокие старики описывать события своего детства, возвращаться к ним: ты прямо замираешь, потому что не можешь понять, как можно запомнить такую вязь деталей. Ну и это время, связанное с памятью о родителях. Это всё-таки такая пуповина. Когда у тебя молодая мама – а ты её помнишь молодой – или отец, и перед глазами какие-то их отношения. Это настолько ярко и свежо… Но при всём при том почему-то лучшее время в восприятии многих – это когда ты немножко встал на ноги, начал сам принимать решения, получать из-за этого по затылку. Первые романтические переживания – ну, не первые уже, если мы говорим о тридцати годах, но уже осмысленные, не дурные.
И в этом плане лучшие годы не всегда связаны с каким-то розовым счастьем – они могут быть связаны и с трагической линией. Чтобы довести это до крайности, приведу случай, который я услышал в своё время и на который не знал даже, как реагировать. Одна женщина мне сказала: «Вы знаете, я почувствовала себя абсолютно счастливой, когда мне поставили диагноз “рак” и у меня начало это всё развиваться, химиотерапия и так далее». А ведь известны особенности нашей медицины, что у нас это часто негуманное лечение, очень-очень плохое, и особенно для женщин, – облысение, боли. Она говорит: «Я почувствовала себя счастливой, потому что я вдруг увидела время и этот мир. Я поняла, что всего этого я не видела. И я почувствовала любовь, которую я могу давать и которую я принимаю. У меня чувства так обострились, я начала прямо кончиками пальцев ощущать этот мир, и ко мне пришла такая радость. А до этого была какая-то беготня: то не так, это не так. Муж пришёл – я ему хочу комплимент сделать, а сама ворчу. А тут формально вроде бы и отношения, если по канонам глянца рассматривать, стали какие-то куцые, разваливающиеся, потому что рак приносит боль, и это не романтический, не цветочно-букетный период. Но я никогда так своего мужа не любила и не чувствовала столько любви от него, как сейчас». Это что – самый лучший период в жизни? Все содрогнутся немного. Ты не можешь сказать: дай Бог вам всем этого! Да нет, не надо. Но удивительно, что на этих качелях и производится восприятие хорошего или плохого, когда ты не можешь это сопоставить с какими-то критериями счастья, каким американцы нас научили.
Вообще это я так ляпнул про 20–30 лет. У каждого какой-то свой год, и поэтому мы, когда задаём такие вопросы, обычно не про возраст спрашиваем, а про самые значимые события. Человек начинает рассказывать – и вдруг эти события локализуются в каком-то периоде. У нас возраст до сих пор связан с определёнными жизненными траекториями, довольно типичными для всех: детский сад, школа, институт, у мальчиков ещё армия, у кого-то женитьба, работа, пенсия. Сейчас это всё немножко ломается, трансформируется. Скажем, значимость ветерана труда сошла на нет, не придают такую ценность многолетней работе на одном месте. Возникло довольно много траекторий в части работы. Но всё равно какие-то периоды, которые «держат» биографию человека, остались до сих пор. Хотя, мне кажется, это такая странная конструкция из модерна, в каком-то смысле именно она стигматизирует старость. Ты учился, чтобы подготовиться к работе, ты работал, чтобы отдать долг учебе – как в советское время у нас было распределение после института по регионам и предприятиям, – а старость в таком случае и заслуженный отдых… Кто-то так рассуждает, чаще дети, чем сами старики, и тогда старость – какая-то странная вещь, потому что каждый старик мне говорит: «Да на кой мне этот отдых! Вот помру, в гроб заколотите – и потом буду отдыхать. Не хочу я этого вашего заслуженного».
 Фото: Ekaterina Shakharova/Unsplash
Фото: Ekaterina Shakharova/UnsplashЮлия Балакшина: Когда я занималась историей жанра дневников, то наткнулась на такое наблюдение: литературоведы посчитали, в каком возрасте люди чаще начинают вести дневники. Оказалось, есть три наиболее типичных возраста. Один – подростковый: понятно, ребёнок определяется с жизнью, выстраивает отношения с этим миром. Второй – это кризис сорокалетнего возраста. А третий – это дневники пожилого возраста, или старческие дневники. И что их отличает? Вот этот дар памяти. Вдруг всплывают пласты, которые, казалось, уже совершенно куда-то на глубину опустились, и ты начинаешь вспоминать, что было с тобой в детстве, в юности – и хочется всё запечатлеть, чтобы это не ушло. А второй характерный дар дневников пожилого возраста – это какие-то сны, видения или пограничные состояния, в которых открывается не бытовая, не текущая сторона реальности. Человек что-то пытается понять о жизни и зафиксировать это в дневниках. Таковы дневники Чайковского, Шмемана, которые велись в позднем возрасте. Думаю, это показатель того, что три перечисленных возраста связаны с максимальной глубиной экзистенциальных переживаний. И старость принадлежит к числу этих наиболее экзистенциально взыскательных возрастов.
Продолжение следует
Разговор записан в рамках проекта Свято-Филаретовского института «Науки о человеке». Смотреть полностью здесь.